
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
С уважением и надеждой
на сотрудничество:
доктор филол.наук, профессор
Анатолий Прокопьевич Чудинов,
доктор филол. наук, доцент
Эдуард Владимирович Будаев,
кандидат филол. наук, доцент
Мария Борисовна Ворошилова,
кандидат филол. наук, техн. редактор Даниил Олегович Морозов
ДИСКУССИЯ
| УДК 81-13:811.161.1 | |||
| ББК Ш1г | ГСНТИ 16.21.27; 16.01.11 | Код ВАК 10.02.19 | |
| А. В. Павлова Майнц, Германия М. В. Безродный Гейдельберг, Германия ХИТРУШКИ И ЕДИНОРОГ: ИЗ ИСТОРИИ ЛИНГВОНАРЦИССИЗМА | А. V. Pavlova Mainz, Germany M. V. Bezrodnyj Heidelberg, Germany KHITRUSHKI AND UNICORN: FROM THE HISTORY OF NARCISSISM IN LANGUAGE | ||
| Аннотация. Краткий очерк истории русского лингвонарциссизма и обзор постсоветских российских публикаций, выполненных в русле гипотезы лингвистической относительности. | Abstract. It is a short essay about the Russian narcissism in language and a survey of the post-Soviet publications dealing with the linguistic relativity hypothesis. | ||
| Ключевые слова: лингвонарциссизм; неогумбольдтианство; гипотеза лингвистической относительности; языковая картина мира. | Key words: narcissism in language; neohumboldtianism; linguistic relativity hypothesis; linquistic image of the world. | ||
| Сведения об авторе: Павлова Анна Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель факультета переводоведения, прикладной лингвистики и культурологии. Место работы: Майнцский университет. | About the author: Pavlova Anna Vladimirovna, Candidate of Philology, Lecturer, Faculty of Translation Studies, Applied Liguistics and Cultural Studies. Place of employment: the University of Mainz. | ||
| Контактная информация: Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Arbeitsbereich Russisch, Postfach 1150, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Germany. e-mail: pavloan@uni-mainz.de. | |||
| Сведения об авторе: Безродный Михаил Владимирович, кандидат филологических наук, преподаватель Института славистики. Место работы: Гейдельбергский университет. | About the author: Bezrodnyj Mikhail Vladimirovich, Candidate of Philology, Lecturer, the Institute of Slavic Studies. Place of employment: University of Heidelberg. | ||
| Контактная информация: Slavisches Institut, Schulgasse 6, 69117 Heidelberg, Germany. e-mail: michail.bezrodnyj@slav.uni-heidelberg.de. | |||
Новая (местами сокращенная, местами расширенная) редакция выступления 11.12.2009 в Берлине на конференции «Kultur und/als Übersetzung», опубликованного на русcком («Хитрушки и единорог: Образ русского языка от Ломоносова до Вежбицкой») и английском («How to сatch a unicorn? The image of the Russian language from Lomonosov to Wierzbicka») языках в сетевом журнале «Toronto slavic quarterly» (vol. 31, 32) и на немецком: Wie fängt man ein Einhorn? Das Bild der russischen Sprache von Lomonosow bis Wierzbicka // Kultur und/als Übersetzung: Russisch-deutsche Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin, 2011. S. 253—276.
Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить за помощь в работе Ренату фон Майдель (Гейдельберг), Биргит Менцель (Майнц), Вольфганга Айсманна (Грац), Александра Бириха (Гейдельберг), Генриха Пфандля (Грац), Оскара Райхманна (Гейдельберг), Патрика Серио (Лозанна), Шамиля Хайрова (Глазго).
Конечно, рассмотренное рассуждение скорее относится к области патологических явлений научной литературы, наблюдающихся и при более высоком состоянии умственной культуры в самых цивилизованных странах, но нельзя не видеть, что в данном случае патологическая уродливость сказалась с особой резкостью, благодаря местным условиям.
С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России: XIII—XIX вв. (М., 2011. С. 583.)
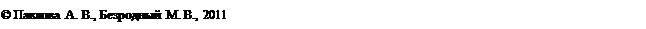 Распад советской империи сопровождался воздвижением шуточных памятников фольклорным персонажам — Чижику-Пыжику, Неизвестному Студенту и Рабиновичу, а сопротивление модернизации ознаменовано реанимацией прежних символов национальной идентичности — таковы новые памятники Ермолову, Дзержинскому, Сталину и Андропову. В 2003 г. площадь одной из кубанских станиц украсил каменный многогранник со словами Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Зададимся вопросом: к какой из упомянутых групп памятников — «крылатым словам» или «сильной руке» — следует отнести этот?
Распад советской империи сопровождался воздвижением шуточных памятников фольклорным персонажам — Чижику-Пыжику, Неизвестному Студенту и Рабиновичу, а сопротивление модернизации ознаменовано реанимацией прежних символов национальной идентичности — таковы новые памятники Ермолову, Дзержинскому, Сталину и Андропову. В 2003 г. площадь одной из кубанских станиц украсил каменный многогранник со словами Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Зададимся вопросом: к какой из упомянутых групп памятников — «крылатым словам» или «сильной руке» — следует отнести этот?
Его инициатор, «помощник атамана по культуре Мостовской казачьей общины» [Степанова 24.05.2002], видел в нем «дань уважения русскому языку, объединявшему на протяжении веков многие народы на огромном пространстве земного шара» [Степанова 24.12. 2002] и «объединяющему всех жителей нашей страны независимо от национальности и вероисповедания, цвета кожи и разреза глаз» [Степанова 24.05.2003]. Следует, однако, учесть, что в годы обсуждения и осуществления этого проекта (2002—2003) Краснодарский край, третий среди регионов России по численности населения, не знал себе равных по уровню дискриминации этнических меньшинств: краевая власть, заручившись поддержкой Москвы и опираясь на помощь казачества, планомерно и открыто запугивала «инородцев» и вытесняла их за пределы края. В те же годы российские СМИ твердили о необходимости защиты русского народа и русской культуры, а российский парламент законодательно закрепил главенство русского языка и кирилловского алфавита. Примечателен контекст, в котором упоминалась инициатива кубанских казаков: «Супруга Президента Л. Путина приняла на минувшей неделе участие во Всероссийской конференции, посвященной проблемам современного русского языка, которая состоялась в Сочи. Известные российские писатели, лингвисты, журналисты, преподаватели русской словесности единодушно сошлись во мнении, что наш „великий и могучий“ нуждается сегодня в защите. Участников ознакомили с новой Федеральной программой „Русский язык в регионах России“. Кстати, на Кубани уже принята своя, краевая программа защиты русского языка. В Мостовском районе 19 октября, в день пушкинского Царскосельского лицея, был установлен гранитный камень как памятный знак любви и признательности русскому языку» [Памятник языку].
Подходила ли для этих целей цитата из Тургенева? На первый взгляд, нет, ведь в ней русский язык предстает не средством международного общения и не объектом защиты, а носителем признаков, отличающих его от других языков. Западный исследователь, изучая общие места в высказываниях российских литераторов и лингвистов о русском языке, заметил, что его превознесение в советское время плохо согласовывалось с марксистской идеей дружбы народов [Jachnow 1987: 218]. Но для советских марксистов здесь не было противоречия, ведь дружбой народов считалось не проявление взаимной симпатии равных, а присяга покоренных на верность. Покорение же мыслилось аккультурацией в противоположность западной практике ассимиляции — идеологема, прочно вошедшая в обиход еще до марксизма: так, Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского» замечает, что русский народ «открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему Географии, Истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего». В советское время с такими декларациями полагалось выступать благодарным «инородцам»; популярностью пользовались, например, стихи дагестанца Гамзатова: «Ни хитроумье бранное, ни сила / Здесь ни при чем. Я утверждать берусь: / Не Русь Ермолова нас покорила, / Кавказ пленила пушкинская Русь» (пер. Гребнева). Однако в стране, где было принято высмеивать акцент и ошибки говорящих по-русски жителей Кавказа, Средней Азии и Прибалтики, не всем удавалось отличить Русь певца Кавказа от Руси палача Кавказа, тем более что о последнем Москва и не позволяла забыть: тщательно охраняемый памятник Ермолову как символ имперского кулака, занесенного над Кавказским хребтом, долгое время украшал центр Грозного. А в 2008 г. в Ставропольском крае по инициативе казаков Терского войска, невзирая на протесты чеченцев, был возведен новый памятник Ермолову. Думается, что сродни ему и памятник Русскому Языку, воздвигнутый казаками Кубанского войска в Кавказском предгорье.
Если в части «правдивый и свободный» тургеневская похвала русскому языку восходит к пушкинским словам о жрецах, независимых от земных властей (Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен; / Правдив и свободен их вещий язык / И с волей небесною дружен [см.: Keil 1978: 263]), то в части «великий, могучий» она наследует богатой традиции лингвонарциссизма. Cо времен Ломоносова в ходу были заявления о функциональном и эстетическом превосходстве русского языка над другими [см.: Русские писатели о языке 1954, 1955; Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.) 1954; Поэты о русском языке 1982, 1989; Русские писатели XVIII—XIX веков о языке 2000, 2006; Русские писатели о языке 2004; Прямая речь 2007], утверждалось, что он старше латинского, немецкого и французского и ровесник древнееврейского (Напр.: «...Единоутробен с латинским и немецким и <...> их обоих старее»; «...Славенского языка древность не токмо равна древности Латинского, но <...> едва ли оную не превышает»; «...Один из первоначальных и коренных языков, и если не древнейший Еврейского <...> то по крайней мере оному современный»; «...Французский отдать должен по должности честь, преимущество и старшинство не только своему древнему Цельтическому, но вкупе и Российскому и признать пред ним свою молодость» [цит. по: Булич 2011: 211, 289, 292, 582]), и всюду находили доказательства его первородства: так, этноним этруски (гетруски) производили от слова хитрушки («ибо сии люди в науках по-тогдашнему упражнялись» [цит. по: Булич 2011: 207; см. также: Клубков 2002]) либо отсочетания геты русские (может быть, русские Геты (Геты русские), занимавшие часть Италии в доисторическом времени, были причиною обозначения племени своего Этрусками [Классен 1995: 85]).
Сама по себе апология родного языка характерна не только для русского варианта идеологии национального превосходства. Собственно русскими здесь были аргументы — ссылки на площадь резонирующего пространства: «Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает», — утверждал Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» [Ломоносов 1952: 92], а через несколько лет, в «Российской грамматике», повышал оценку: «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе» [Там же: 391] [1]. Объявленный имманентным российским просторам, русский язык оказывался подобен русскому народу и так же, как он, изображался силачом и гигантом — в полном соответствии со знаменитым умозаключением: «Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» [Гоголь. Т. 6: 221]. Так, Бестужев-Марлинский сравнивал русский язык с Гераклом («Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то; но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид, который в колыбели еще удушал змей! И вечно ли спать ему?» [Бестужев-Марлинский 1958: 546]. См. также: «Российское бы слово от природы богатое, сильное, здравое, прекрасное, ныне еще во младенчестве своего возраста, добродетелей твоих изображением растущее и укрепляющееся, превзошло б достоинство всех других языков» [Ломоносов 1954: 95]), Шевырев — с Ильей Муромцем («Что сделалось с российским языком! / Что он творит безумные проказы! <…> Сей богатырь, сей Муромец Илья, / Баюканный на льдах под вихрем мразным, / Во тьме веков сидевший сиднем праздным, / Стал на ноги уменьем рыбаря / И начал песнь от бога и царя. — / Воскормленный средь северного хлада / Родной зимы и льдистых Альп певцом, / Окреп совсем и стал богатырём, / И с ним гремел под бурю водопада» [Шевырев 1939: 87—88]), Надеждин наделял его эпитетами «мощный», «сильный», «могучий» и писал о его «богатырских мышцах» и «мужественной, исполинской энергии» [Надеждин 1972: 395, 405, 416, 420], а Гоголь восклицал: «Исполин наш язык!» [Гоголь. Т. 12: 34].
Классика лингвонарциссистского жанра, тургеневский панегирик стал в советское время образцом для двух других знаменитых гимнов — матери и империи: обращенное к родному языку признание «Ты один мне поддержка и опора» отозвалось в есенинском «Ты одна мне помощь и отрада», а эпитеты великий, могучий и свободный были использованы в михалковском тексте: Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь! / Да здравствует созданный волей народов / Единый, могучий Советский Союз! [2]. Примечательно, что при воспроизведении последней строчки единый часто заменяют на великий, как если бы сквозь гимн империи проступал «исходный» текст — гимн языку.
Постсоветский портрет русского языка живо напоминает его прежние изображения. Создатели так называемой новой хронологии берут на вооружение гипотезу о славянском происхождении этрусков [см.: Носовский, Фоменко. Ч. 4, гл. 15: Исчезновение загадки этрусков]; общественность оповещают, что «депопуляция <российского> населения и делексикализация <русского> языка — сходной природы» [«Любовь» усохла на три четверти 2009]. (О постсоветском отождествлении русского языка и русского народа в образах болезни языка см.: [Eismann 2000].) Уподобление языка народу не редкость и в работах академического (по характеру оформления, месту публикации и месту службы автора) профиля, особенно в тех, что пропагандируют идеи неогумбольдтианства.
Это направление гуманитарной мысли, постулирующее зависимость мышления и поведения носителей языка от особенностей его грамматики и лексики, связано прежде всего с именами Сепира и Уорфа, которым приписывают авторство гипотезы лингвистической относительности (далее — ГЛО), и Вайсгербера, автора концепции «содержательной грамматики» и популярного в работах этого направления понятия «языковая картина мира» (далее — ЯКМ) [3]. С 1960-х гг. работы неогумбольдтианцев систематически подвергаются критике: изучение мыслительной деятельности не владеющих речью детей, афатиков, глухонемых, а также животных привело исследователей к выводу о независимости мышления от языка; проверка доказательной базы ГЛО выявила, например, ошибочность представлений Уорфа о языке хопи; указывалось и на существенные отличия американской версии неогумбольдтианства от немецкой (напр.: «...Утверждая, что между „языковыми мышлениями“ романских и германских языков существуют „лишь незначительные различия“, <...> Уорф фактически разрушает основу, на которой зиждется у Вайсгербера типологическое противопоставление немецкого языка французскому» [Кацнельсон 2011: 103]. См. также: [Gipper 1972]). К 1980-м гг. интерес к ГЛО угасает. В 1984 г. ученик Вайсгербера предсказывает его идеям великое будущее [см.: Gipper 1984], но спустя двадцатилетие выясняется, что большинство языковедов считает их устаревшими [см.: Roth 2004: 480]. Впрочем, так обстоит дело в западной лингвистике. В лингвистике российской ГЛО в постсоветское время становится весьма влиятельной доктриной, о чем свидетельствует, помимо прочего, заметный, особенно с середины 2000-х гг., рост числа публикаций, в которых соответствующие термины и ссылки выполняют исключительно декоративную функцию.
Ниже, однако, речь пойдет не о тех работах, в которых Сепир — Уорф попросту сменили Маркса — Энгельса, а о тех, что действительно выполнены в русле ГЛО. Их поток неоднороден: авторы по-разному определяют степень влияния языка на восприятие действительности и на поведение его носителей. Объединяет умеренных и радикальных поборников ГЛО преимущественный либо исключительный интерес к тем «концептам» (или «ключевым словам», «ключевым понятиям», «лингвокультуремам»), которые объявляются конститутивными для «русской ментальности» (или «русского менталитета», «русской ЯКМ», «русской модели мира»).
Интерес к ним возник под влиянием сочинений Вежбицкой о ключевых словах национальных культур. На западных лингвистов эти сочинения произвели и производят впечатление анахроничных и маргинальных — как потому, что в них сопоставляются фантомы (национальные характеры), а в подтверждение выводов, например, о русском характере цитируются Достоевский и Евтушенко, так и потому, что материалом для анализа служат не однородные и представительные по объему речевые массивы, а единичные и предвзято отобранные примеры из разных по типу дискурса и времени возникновения источников [см., напр.: Sériot 2005; Weiss 2006; Gebert 2006; Baldauf 2006; ср. также критику сборника работ российских учеников Вежбицкой: Келли 2007].
Обратное наблюдается в постсоветской России: ГЛО в версии Вежбицкой была воспринята исследователями западнической складки как последнее слово мировой науки, и их воодушевление разделили неославянофилы, быстро оценившие пригодность понятийного аппарата ГЛО для обсуждении «русскости». Если в XIX в. носители универсалистских представлений полемизировали с идеологами особого статуса русского языка (таковы дискуссии карамзинистов с шишковистами, а позже — представителей академической науки с лингвистами-славянофилами [см., напр.: Гаспаров 1999], первыми российскими гумбольдтианцами [4]), то в конце XX в. гумбольдтианская доктрина утвердилась в российском языковедении усилиями как неославянофилов, так и неозападников. Девальвация универсалистских взглядов протекала на фоне поисков новой национальной идеи и усиления в обществе изоляционистских настроений: если в начале 1990-х гг. более 2/3 опрошенных россиян приветствовали планы «возвращения в семью цивилизованных наций», то к началу 2000-х почти 4/5 поддерживали идею «особого пути» [см.: Верховский, Панин 2010: 173]. (Несколько ранее похожее научное направление сложилось в Китае, где с утратой ценностных ориентиров времен культурной революции и четырех модернизаций возникла потребность в новой объединяющей идее, и таковой стало противостояние глобализации. Определение специфики китайского национального характера объявили задачей государственной важности — включили в планы 7-й пятилетки. Взявшиеся за выполнение этого заказа языковеды противопоставили «упадочному» западному рационализму, формализму, абстрактности, аналитизму, объективизму и сциентизму «древнюю, но вечно юную» китайскую эмоциональность, образность, конкретность, синтетизм, интуитивизм и гуманизм [см.: Schulte 2004; Schulte 2008; Wippermann 2003].)
Фундаментальные для ГЛО предположения — что народы различаются мировоззрением и характером и что эти различия закреплены в языке — предстают в работах российских приверженцев ГЛО не требующими проверки фактами. Вот типичные зачины этих работ: «Мы знаем, что ярким отражением характера и мировоззрения народа является язык и, в частности, его лексический состав» [Шмелев 1997: 482]; «Известно, что языковая картина мира каждого народа является отражением национального духа народа, специфики его мировосприятия» [Певная 2009: 72].
А вот образцы выводов: русскоязычные, в отличие от англоязычных, держат под контролем свое стремление к популярности [Карасик 2010: 222], а в отличие от немецкоязычных, признающих целесообразность страха, относятся к нему негативно [Бутенко 2006]; русские — «смелые, безответственные, фаталисты, добрые, бескорыстные, совестливые», а французы — «страшливые, ответственные, материалисты, корыстные, прагматичные, опирающиеся на законы» [Голованивская 2009: 372]; сакральный характер основы существительного удивление отражает присущее русскоязычным ощущение зависимости всего происходящего от воли высшей силы, английские же лексемы surprise, wonder указывают на более предметный, агентивный и индивидуалистский характер английского языкового сознания [Дорофеева 2002]; «...квадрат в русской языковой картине мира играет заметно менее существенную роль по сравнению с кругом. Вклад концепта круг более существенен для русской национальной картины мира, в то время как для английской национальной картины мира концепты квадрат и круг одинаково значимы, т. е. по сравнению с англоязычной русскоязычная культура более „круглая“, а англоязычная по сравнению с русскоязычной более „квадратная“» [Гринкевич 2006: 21]; «...метафорическая структура концепта [ грех ] аналогична у представителей русского и французского сообществ. Основные отличия заключаются в том, что концепт русской лингвокультуры имеет дополнительную метафорическую проекцию тайна» [Семухина 2008: 19]; «...русскому менталитету так же, как и японскому, свойственно „психологическое единение“. Однако у русских оно другого рода....согласно русским культурным нормам, человек должен не только говорить то, что он думает. Он должен пропустить сказанное через свою собственную совесть» [Чернышева 2004: 279—282].
Констатацией отдельных особенностей русского языка-и-характера неогумбольдтианец не ограничивается — по эскизам Тютчева и Блока рисуется картина тотального одиночества русскоязычных: «Определенное противопоставление русского мира всему остальному носит объективный характер. Подавляющее большинство наций, составляющих сколько-нибудь влиятельный слой в современном мире, при построении грамматики своего языка, избрали иной путь, чем русские. <...> В основу китайского, тайских, японского, арабского, тюркских, западноевропейских положен определенный порядок слов. Даже в тех языках, где сохранились элементы падежных отношений, порядок победил. Мы одиноки в кольце стран, и взаимопонимание с ними объективно затруднено. <...> Мысль китайца гораздо ближе по принципам грамматического устройства к мысли англичанина или араба, чем к нашей. <...> Именно отсутствие в нашем языке парадигмы порядка и обязательности навязывает нам соответствующее понимание устройства мира. В нашей грамматике для построения понятного выражения можно использовать любой употребляемый в других языках порядок. <...> Поэтому нам легко понять как тюрков с их порядком слов (сказуемое в конце предложения), так и европейцев или китайцев с их последовательностью, когда сказуемое ставится после подлежащего. Ведь на русском вообще можно написать предложение в виде кольца, и оно не потеряет смысла, если начинать читать его с любого слова. Поэтому в процессах взаимопонимания гораздо больше проблем возникает для них, а не для нас. И это непонимание, прежде всего в виде рожденного западноевропейским языком формализма и ригидности мысли, сквозит через историю последних столетий и до сегодняшнего дня. Мы действительно во многом стоим особняком. Так, из стран с развитой цивилизацией и технологией мы самая северная. А среди северных стран у нас самый суровый климат. И, тем не менее, наперекор обстоятельствам русские оказались очень успешны в мировом соревновании цивилизаций. Думаю, что мы должны быть благодарны в этом выкованному нами языку, а вместе с ним и своеобразию нашей мысли. В русском языке основа нашего изворотливого ума, нашего удивительного отношения к обстоятельствам и друг к другу. <...> Европеец и китаец склонны на первое место поставить терпеливый труд, который поспособствует удаче, а желание ему кажется рядовым условием любого начинания. Психолингвистический анализ показывает, что обстоятельства жизни русского человека закрепили в сознании (через посредство русского языка) иную последовательность. С русской точки зрения даже старательный труд может быть легко посрамлен неудачей, и только упрямое желание доведет до цели. При этом русское желание преследует цель не только упорным трудом, но и любыми неожиданными решениями. <...> Ставить банальные цели, которые легко соблазняют европейца или китайца (типа относительного улучшения чего-либо трудом) для русского человека мало привлекательно. Русский человек готов поставить свои усилия на кон только за нечто значительное, а лучше небывалое, за то, что можно назвать мечтой. Русская цель должна оправдывать любые усилия, а не измеряться посильным трудом. Этот вывод основан на экспериментальной психофизиологии условных рефлексов в условиях вероятностного подкрепления и психолингвистическом анализе основ русского языка» [Малышев 2009: 387—389].
Недоумение западных ученых по поводу новых веяний в российской науке о языке побудило Вежбицкую, открывшую своими key words ящик Пандоры, обозначить отличие собственной позиции от позиции своих ближайших российских учеников: так, комментируя их заявление, что язык «навязывает» определенные «представления о мире, стереотипы поведения и психических реакций» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 13], Вежбицкая замечает: «Лично я бы сказала не „навязывает“, а „подсказывает“» [Вежбицкая 2008: 185; см. также: 179]. Обвинения в том, что, сопоставляя языки, она сопоставляет национальные характеры, Вежбицкая отвергает: «...я никогда не говорила о русском или каком-нибудь другом „национальном характере“» [Там же: 183]. Это очень странное утверждение, и не только потому, что словосочетание national character не раз встречается, например, на страницах ее книги «Semantics, culture, and cognition» [5] (другое дело, что в дальнейшем Вежбицкая все чаще заключает злополучное словосочетание в кавычки [см., напр.: Wierzbicka 1998] или избегает его употреблять, — как полагают, по совету западных коллег [см.: Weiss 2006: 234]), но и потому, что, коль скоро национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер, то сопоставление национальных языков есть одновременно сопоставление национальных характеров — пусть даже эти последние не упоминаются, а прячутся под псевдонимами «ментальность», «менталитет», «культура» и пр.
Приходилось Вежбицкой выслушивать упреки и от российских коллег: не все ее оценки, выставленные русскому характеру, сочли достаточно лестными, т. е. «научно обоснованными». Ее выводы о русской иррациональности, неагентивности и фатализме были названы сложившимися под «давлением субъективизма и господствующих идеологических стереотипов» [Тарланов 1998: 73] (предпринятая З. К. Тарлановым критика представлений Вежбицкой о синтаксисе русского и английского языков поддержана в следующих работах: [Keijsper 2004: 192; Gebert 2006: 223]), «несколько поверхностными» [Шмелев 1997: 489], «несколько преувеличенными» [Шмелев 2002: 460], «несколько упрощенными» (Шмелев А. Д. Комментарий к статье Анны Вежбицкой — [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 503]), «отчасти спорными» [Голованивская 2009: 364], покоящимися «на контекстах вынужденно услужливого характера» [Колесов 2007: 43] (ср.: «...бесстрастная констатация межъязыковых соответствий подменяется фанатическим поиском доказательств, удовлетворяющих снедающую её русофобию» [Овсянников: 82]), не опирающимися «на значительный фразеологический материал как синхронического, так и диахронического характера» [Андрамонова, Балабанова 2003: 28]. (Против неогумбольдтианской практики использования фразеологического материала высказывались возражения и другого рода; см., напр.: [Мокиенко, Николаева. 2002; Березович 2007: 13; Баранов, Добровольский 2008: 251—253, 256, 257].)
Последний упрек типичен именно для 2000-х гг. Если в предшествующее десятилетие идеи неогумбольдтианства распространялись преимущественно в форме научной эссеистики, то в дальнейшем, с увеличением числа пропагандистов ГЛО, повысилась жанровая пестрота их выступлений и в этом потоке отчетливо обозначились полюса эссеизма и сциентизма. В работах, тяготеющих к первому, обнажается идеологический субстрат ГЛО и открыто пропагандируется идея русской исключительности. Особенности русского характера обсуждаются на страницах так называемых лингвострановедческих пособий: изучающим русский сообщают, что в обращении «родной» проявляется «характерное для русской культуры отношение к кровному родству — одновременно чрезвычайно прочувствованное и очень неформальное» [Предтеченская, Соколова, Шатилова 2008: 109], рекомендуют читать выдержки из сочинений о русском характере, написанных идеологами национализма (Иваном Ильиным, Олегом Платоновым и др.), и выполнять задания вроде таких: «Вставьте вместо пропусков нужный предикат свойственно, присуще, характерно, типично в правильном роде и числе. 1. Для русских ___________ свободолюбие и правдоискательство. 2. Русским людям ___________ изобретательность, смекалка, артистичность» [Перевозникова 2006: 165, 170, 178 и далее], или: «Выбери характерные черты русского человека» («правильные» ответы: добрый, хмурый, страстный, веселый, скромный, терпеливый, щедрый) [Штельтер 2004: 11, 63]. (Ср. также пособия с говорящими заглавиями и подзаголовками: [Сергеева 2006; Соловьев 2001].)
На другом, сциентистском полюсе российского неогумбольдтианства высказывается озабоченность тем, что «в последнее время идея языковой картины мира была очень широко растиражирована и, к сожалению, измельчена. Некоторые авторы делают далеко идущие обобщения об этноспецифическом взгляде на мир и даже об особенностях национального характера на основе анализа нескольких изолированных примеров», поэтому при определении «этноспецифичных» языковых единиц предлагается руководствоваться таким критерием, как их непереводимость столь же простыми единицами других языков, и принимать во внимание «меру этноспецифичности», которая тем больше, чем большее число единиц языка выражает «ключевую идею» и чем более разнообразна их природа [Апресян 2006: 35].
Эти и подобные им предложения напоминают рекомендации по ловле единорога, но вообразим на минуту, что национальное мировоззрение вовсе не фантом и национальная ЯКМ может быть реконструирована (сторонники ГЛО пользуются именно термином «реконструкция», а не, скажем, «моделирование») на основе ключевых слов. Насколько состоятельна надежда на выявление этих последних по приписываемым им признакам: включенность во фразеологизмы, высокая частотность и непереводимость?
Объявляя некое слово ключевым из-за его присутствия во фразеологизмах и иллюстрируя паремиями свои утверждения о важности для русской ЯКМ тех или иных моральных императивов, неогумбольдтианцы игнорируют структурную и семантическую целостность фразеологизма (т. е. неактуальность значений отдельных его компонентов; так, в подтверждение уникальности «концепта» душа сообщается, что в английских соответствиях русским идиомам с этим словом вместо soul используются иные слова: душа моя! — my dear!; жить душа в душу — to live in perfect harmony [см.: Гунина 2009: 174]), интернациональный характер большинства паремий (так, российская исследовательница, иллюстрирующая библеизмами свой тезис о том, что русские осуждают предательство и высоко ставят верность и чувство долга, забывает, что библеизмы не содержат в себе ничего специфически русского [см.: Eismann 2002: 117]) и взаимоисключающий — многих из предписаний «народной мудрости» (так, попыткам лингвистически обосновать стереотипы русской щедрости и немецкой прижимистости сопротивляются многочисленные русские пословицы, призывающие к бережливости, и многочисленные немецкие, осуждающие скупость [Там же: 119]). Наконец, среднестатистическому носителю языка обычно известно лишь небольшое количество этих предписаний, но даже будь он знатоком таковых, разве это доказывало бы его готовность ими руководствоваться?
А вот как постулируется высокая частотность ключевых слов: «...в корпусе современного русского языка частотность слова судьба — 230 на миллион слов, а в корпусе современного французского языка частотность destinée — 27 на миллион слов» [Вежбицкая 2008: 181]. Иначе говоря, слово судьба предлагается считать высокочастотным в русской речи (а значит, ключевым для понимания мировоззрения русскоязычных) только потому, что слово destinée в речи франкофонов употребляется реже. А что делать, если обнаружится, что в других языках аналоги слова судьба употребляются чаще, чем оно? Не потребуется ли тогда пересмотреть его статус в русском? Непонятно, далее, почему сравниваются именно судьба и destinée, а не вообще русские и французские слова с соответствующей семантикой (ср. наблюдение, что слово судьба в переводной литературе с английского встречается реже, чем в оригинальной русской, но это соотношение изменится, если учитывать синонимы [см.: Zaretsky 2008: 47—48]). Последнее было бы тем более желательно, что судьбе как слову ключевому не полагается иметь переводных эквивалентов.
Классическое неогумбольдтианство исходит из представления о принципиальной непереводимости (согласно Гумбольдту: «Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer unmöglichen Aufgabe. Denn jeder Übersetzer muss immer an einer der beiden Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an sein Original oder auf Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten seiner Nation zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht bloß schwer, sondern geradezu unmöglich» [Verzeichniss 1868: VI]) и мыслит язык промежуточной — меж бытием и сознанием — реальностью, уникальной для каждого языкового сообщества и жестко детерминирующей процессы концептуализации действительности. Языковые сообщества сродни монадам, и их взаимодействие иллюзорно (а ощущение, что оно реально, возникает, надо полагать, вследствие harmonia praestabilita). Эта точка зрения популярна у российских авторов [6], и от иных их открытий решительно веет солипсизмом. Сообщается, например, что «к „живому“ в русской языковой картине мира относятся растения, животные, человек, Бог, к неживому относятся стихии, вещества, продукты, предметы» [Пименова 2006: 184] и что «русское языковое сознание связывает детство с беззаботностью, старость — с немощью и смертью» [Сергиева 2009: 264]. С этим невозможно не согласиться, но что в этой концептуализации специфически русского?
Строго следуя логике ГЛО, иллюзорными нужно было бы признать также синонимию и билингвизм. Из понимания синонимов как разных форм воплощения одного и того же смысла с необходимостью следует допущение, что смысл может быть и не слит с формой, а это противоречит ГЛО. О существовании лиц, владеющих несколькими языками, неогумбольдтианцы предпочитают не вспоминать, но если речь о таковых все-таки заводят, то заявляют, что «изучение иностранного языка <…> сопровождается своеобразным раздвоением личности» и что «у билингвов одновременно сосуществуют две языковые картины мира, у специалистов по иностранным языкам вторичная языковая картина мира накладывается на первичную, заданную родным языком» [Тер-Минасова 2000: 48, 63; см. также: Алефиренко 2010: 87—88]. Процитированное наблюдение тем более ценно, что оно принадлежит декану факультета иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоносова. Случаи сосуществования у одного лица более чем двух ЯКМ этим автором не упоминаются и, надо надеяться, не зафиксированы.
Непереводимостью слова, объявленного ключевым, неогумбольдтианцы называют отсутствие у него точных эквивалентов в других языках. Под точностью эквивалента понимается его принадлежность к тому же разряду языковых единиц (так, словам полагается переводиться словами же и ни в коем случае не словосочетаниями (напр.: «...концепт является „концептом“ как раз в силу того, что он не находит однословных эквивалентов при переводе на другие языки» [Воркачев 2003: 5]), вопреки многовековой практике перевода) и к той же части речи (так, существительное капризница причисляется к немецким лакунам потому, что переводится прилагательным launenhaft [см.: Бердникова 2006: 13]). Другими же языками именуются языки вообще либо «западные языки», без уточнения. Если же доказывается отсутствие у некоего слова эквивалента в лексиконе конкретного языка, то делается это путем сопоставления значений слов в двуязычных и толковых словарях, а не путем анализа конкретных переводческих решений. Между тем переводчики имеют дело не с изолированными словами, но с сообщениями, и, например, в зависимости от того, какие именно значения многозначного слово пошлый актуальны для того или иного сообщения, это словопереводится на немецкий как kitschig, ordinär, vulgär, gewöhnlich, geschmacklos, niveaulos, spießig, primitiv, kleinkariert, engstirnig, beschränkt, anzüglich, schlüpfrig либо как их комбинация. Постулируя непереводимость слов, назначенных ключевыми, неогумбольдтианцы занимаются, собственно, не чем иным, как производством мнимых лакун, созданием «ложных врагов переводчика».
За доказательствами непереводимости обращаются и к этимологическим словарям, однако несовпадение внутренних форм не может служить доводом в пользу непереводимости, поскольку внутренняя форма осознается лишь в случаях намеренной ее актуализации (в каламбурах, в поэзии), и ссылки на авторитет Потебни [см., напр.: Жакупова 2008: 22—25], много писавшего о мотивационной природе внутренней формы, вряд ли уместны, ведь именно А. А. Потебня считал, что, начиная с этапа полного овладения языком, воспоминания о внутренней форме стираются [см.: Потебня 1913: 138, 171—174]. Да и нужно ли доказывать непереводимость того или иного слова, напряженно всматриваясь в его внутреннюю форму и уподобляя каждого носителя языка Хлебникову и Цветаевой, раз столь наглядны различия уже во внешней форме слов? Если об «этноспецифике» свидетельствуют все языковые различия, то для ее выявления вовсе не обязательно заниматься сопоставительным анализом лексики и грамматики — достаточно ограничиться фонетикой и графикой. Дано ли, например, постичь смысл русской судьбы тому, кто выговаривает и пишет destinée? — и звуки не те, и буквы, и количество слогов.
Какая бы ситуация несовпадения языков ни рассматривалась российскими неогумбольдтианцами, ей полагается свидетельствовать о превосходстве русского языка над другими. Если для перевода, например, слова пошлость приходится пользоваться одним из его контекстуальных синонимов, это демонстрирует беспрецедентную емкость русской лексемы. Если ситуация противоположна, а именно: некое понятие выражают большим количеством русских слов и небольшим — нерусских, — это служит доказательством беспрецедентного богатства русского лексикона. Насколько надежны лингвонарциссические построения, показывает следующий пример. Повторяя популярный тезис о том, что состояние печали и уныния на русском выражается более дифференцированно, чем на других языках, российский автор сообщил, что там, где русскоязычный располагает шестью словами (печаль, грусть, скорбь, тоска, уныние, кручина), у немецкоязычного всего два (Trauer и Traurigkeit). Но, публикуя свои наблюдения на немецком и поясняя русские обозначения печали и уныния, автор воспользовался, сам того не заметив, не двумя немецкими словами, а девятью (помимо Trauer и Traurigkeit еще Betrübnis, Wehmut, Gram, Schwermut, Verzagtheit, Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit) [Fomina 2004].
Казалось бы, решение о том, какое именно слово причислять к ключевым, следует принимать на основе анализа лексем из суммы трех множеств: «самые частотные», «самые фразеологичные» и «самые непереводимые». Это, однако, не делается никогда. Ключевые слова всегда известны заранее; мишень рисуется вокруг вонзившейся стрелы. И то сказать, по критерию частотности судьбу приходится сравнивать с destinée, а не с русскими существительными — ведь среди них судьба занимает только 181-е место, тогда как, например, дело находится на 4-м, и идиом с делом куда больше, чем с любым из признанных ключевых слов. Однако дело, в отличие от слов судьба, удаль и авось, ключевым считаться не может — это противоречило бы «учению» о склонности русских к созерцательности. Несолидно было бы считать ключевыми матрешку и самовар, т. е. слова действительно непереводимые (отчего их и не «транслируют», а транслитерируют), так что остается настаивать на непереводимости слов удаль и авось. Как видим, критерии, пригодность которых не доказана и недоказуема, еще и используются весьма избирательно.
Единственное основание, по которому то или иное слово назначается ключевым, — вера неогумбольдтианцев в этностереотипы. Отвергая обвинения в том, что в своих работах она опирается на стереотипы и защищает их, Вежбицкая тем не менее заявляет, что «некоторые из них могут отражать — пусть грубо и неточно — опыт многих обыкновенных людей» и что «результаты анализа в какой-то точке» могут согласовываться «с каким-то стереотипом» [Вежбицкая 2008: 185]. Еще откровенней высказываются на этот счет ее российские единомышленники: «...на уровне обыденного сознания то, что принято называть менталитетом, издревле ощущается как безусловная реальность нашего экзистенциального опыта. В этом нас убеждают данные фольклора, в частности анекдотов на национальную тему, языковой материал фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также почтенная философская, культурная и литературная традиция» [Радбиль 2010: 47] (ср.: «Мало кто будет отрицать, что национальные стереотипы, представленные во фразах „We Dutch are honest“, „Русские долго запрягают, но быстро едут“, „Умом Россию не понять“, „My house is my castle“ и т. п. оценочно маркированы и всегда указывают на неоспоримый факт о эмоционально-психологических различиях национальных культур» [Шаховский 2009: 82]); «Анализ русской лексики позволяет сделать выводы об особенностях русского видения мира <...> и подвести под рассуждения о „русской ментальности“ объективную базу, без которой такие рассуждения часто выглядят поверхностными спекуляциями» [Шмелев 1997: 481] (ср.: «Неогумбольдтианская лингвофилософская концепция стала <…> первой попыткой перевести метафизические рассуждения об особости духа народа и картины мира языка в область практических лингвистических исследований, создав тем самым действительную основу для нового Ренессанса идей В. фон Гумбольдта» [Радченко 2006: 288]).
Итак, этностереотипы объявляют отвечающими реальности, а перед языкознанием ставят задачу обеспечить их пропаганде научную респектабельность. В свою очередь, умозаключения в духе ГЛО сообщают любому наблюдению над языком впечатляющую социологическую, а то и историософскую глубину. Утверждается, например, что участившиеся в современной русской речи случаи употребления непереходных глаголов как переходных свидетельствуют о вестернизации мышления русскоязычных и что это чревато грандиозными общественными изменениями [см.: Эпштейн 2007; анализ см.: Градинарова, Зарецкий 2009]. Это мнение оспаривается — и точно тем же способом: на основании «„обратных“ примеров интранзитивации и рефлексивизации» делается вывод, что «русский язык и стоящий за ним „русский взгляд на мир“ пока еще не собирается сдавать позиции под напором иноментальных и инокультурных влияний. Более того, наиболее фундаментальные способ познания и оценивания мира и модели поведения в нем даже расширяют свою активную „представленность“ в речевой деятельности этноса» [Радбиль 2010: 324,325] (см. также: «...в рамках русской культуры индивидуализм не может стать доминирующим мировоззрением, поскольку противоречит ее основным принципам, где основным является духовность» [Слепушкина 2007: 16]).
Если западные приверженцы ГЛО, пытаясь возродить к ней интерес, дистанцируются от ее радикальных вариантов, то в литературе на русском, напротив, наблюдается тяготение к nec plus ultra, к этнолингвистике во вкусе старухи Изергиль («...Бог дал полякам такой змеиный язык за то, что они лживы»). Родной язык назначается ответственным уже не только за способы концептуализации действительности, но и за формы проявления эмоций (напр.: «В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый индивид, естественно, варьирует проявление типизированной эмоции, подгоняя ее под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но редко выходит за грани социального (обобщенного) опыта» [Шаховский 2009: 35]), и все чаще мыслится объектом не столько усвоения, сколько наследования: «...язык живет в нас. Он хранит в нас нечто, что можно было бы назвать интеллектуально-духовными генами, которые переходят из поколения в поколение» [Колесов 1999: 137]; «...своеобразие русского менталитета <...> кодифицировано в семиотических границах русской этнокультуры, а сама ментальность в таком понимании предстает в качестве своего рода „познавательного кода“. Употребление генетического термина „код“ здесь не случайно. Он подчеркивает главное: ментальность — продукт наследования этнокультурной информации» [Алефиренко 2010: 117]. Биологизирующей терминологией учится пользоваться и истеблишмент: «Язык — это все-таки геном нации», — так директор правления фонда «Русский мир» обосновал свое предложение поставить проведение федеральной программы «Русский язык» под личный контроль президента России; и президента России эта аргументация убедила: «То, что вы сказали про язык как геном нации, то здесь президентское участие необходимо» [Граник 2011] (см. также: [Ветров 2011]).
Эпоха «суверенной демократии» учит не удивляться выходу в свет пособий по «русской логике» [Лобанов 2002; 2004; 2005; 2007; 2009; 2010] и «православной арифметике» [Говоров 2010]. Если поначалу под ЯКМ понималось отражение в языке так называемого наивного — в противоположность научному, единому для всего рода человеческого — мировоззрения, то со временем выяснилось, что научное мышление, скажем, у испаноязычных характеризуется «линейной логикой, аналитическим подходом, фрагментарностью, сегментацией и четкой категоризацией», а у русскоязычных — «синтезом, целостным восприятием, взаимосвязью разносторонних явлений, стремлением к высшим формам опыта» [Копылова 2007: 64].
Востребовано ли такое языкознание в современной России? Вне всяких сомнений, если судить по масштабам его внедрения в науку и образование. Выступает ли кто-нибудь из российских лингвистов против ГЛО? Против доктрины как таковой — нет; высказываются лишь замечания частного порядка. Куда более важным российское языкознание почитает защиту своего предмета от откровенно невежественных посягательств извне. Так, недавно бескомпромиссно были пресечены попытки доказать происхождение слова «этруски» из фразы «это русские». В том же выступлении было замечено, что, судя по стремлению дилетантов считаться учеными, «психологические позиции науки пока еще всё же относительно крепки в обществе» [Зализняк 2009: 61]. Это и впрямь очень утешает.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1]. См. также: «...Jamais langue n’a occupé une aussi vaste étendue» [Лекция Кюхельбекера... 1954: 368); «...Теперь во вселенной Российский язык почесться может занимающим место Еврейского, как сей был при Моисее и других богомудрых Пророках и Царях. Он по пространству и силе Государства, и по истинной вере, несмотря на мнения инославных, первый хранит истинное богопознание» [цит. по: Булич 2011: 583]; «Язык русский — этот сильный, могучий язык, раздающийся по беспредельной обширности нашего великого отечества, от хребтов Карпата до хребтов Саяна, от моря Белого до моря Черного» [Надеждин 1972: 405]. Ср. также параллелизм образов территории и языка в стихотворении Б. А. Слуцкого «Родной язык»: Отечественная история / и широка и глубока / как приращеньем территории, / так и прельщеньем языка.
[2]. О перекличке гимнов — русскому языку и Советскому Союзу — см.: [Keipert 1997: 195]. Ср. также уподобление русского языка — как могучего и правдивого — русскому народу и Советскому Союзу в стихотворении А. Яшина «Родной язык»: Он, как русский народ, многолик, / Как держава наша, могуч. <…> Недвусмысленный и прямой, / Он подобен правде самой.
[3]. Доктрина Вайсгербера освещалась в СССР еще в 1950-е гг. (историю ее рецепции см.: [Radtschenko 1992]), однако его работы до начала 1990‑х гг.на русский не переводились.
[4]. Серио прямо называет метод К. Аксакова, автора учения о русском глаголе, гумбольдтианским (см.: [Sériot 2003: 277) и обнаруживает сходство в идеях Аксакова и Вежбицкой [см.: Sériot 2005: 33—34). Следует, однако, заметить, что ни Вежбицкой, ни ее последователям эта страница истории российской лингвистики не известна; из российских неогумбольдтианцев только В. В. Колесов обстоятельно изучал (и еще в советское время пропагандировал) работы славянофилов — «первых, кто хотел обозначить специфические особенности русской ментальности в формах языка» [Колесов 2007: 52].
[5]. Ср. также подзаголовок работы [Wierzbicka 1992].
[6]. Напр.: «Социокультурный фактор, то есть те социокультурные структуры, которые лежат в основе структур языковых, окончательно подрывает идею „эквивалентности“ слов разных языков, совпадающих по значению, то есть по соотнесенности с эквивалентными предметами и явлениями окружающего мира» [Тер-Минасова 2000: 63]; «Ни в отношении формы (плана выражения), ни даже в отношении значения (плана содержания) тексты ИЯ <исходного языка> и ПЯ <переводящего языка> и единицы этих текстов не могут быть тождественны в принципе» [Иванов 2006: 8]; «...значения слов в разных языках не совпадают (даже если они, за неимением лучшего, искусственно ставятся в соответствие друг другу в словарях). Значения слов отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерные для языковой общности» [Корниенко 2008: 23].
ЛИТЕРАТУРА
Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. — М., 2010.
Андрамонова Н. А., Балабанова И. Я. Синтаксические отношения как универсалии // Сопоставительная филология и полилингвизм: сб. науч. тр. — Казань, 2003.
Апресян Ю. Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. — М., 2006.
Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. — М., 2008.
Бердникова Е. В. Лексическая лакунарность в аспекте межкультурной коммуникации: автореф. дис.... канд. филол. наук. — СПб., 2006.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. — М., 2007.
Бестужев-Марлинский А. А. Соч. — М., 1958. Т. 2.
Булич С. К. Очерк истории языкознания в России: XIII—XIX вв. — М., 2011.
Бутенко Е. Ю. Концептуализация понятия «страх» в немецкой и русской лингвокультурах: автореф. дис.... канд. филол. наук. — Тверь, 2006.
Вежбицкая А. Имеет ли смысл говорить о «русской языковой картине мира»?: (Патрик Серио утверждает, что нет) // Динамические модели: слово, предложение, текст. — М., 2008.
Верховский А., Панин Э. Цивилизованный национализм: Рос. версия «особого пути» // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. — М., 2010.
Ветров И. Язык как геном нации // Учит. газ. 2011. 14 июня.
Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый» термин // Язык, сознание, коммуникация. — М., 2003. Вып. 24.
Гаспаров Б. Лингвистика национального самосознания: (Значение споров 1860—1870 гг. о природе рус. грамматики в истории филос. и филол. мысли) // Логос. 1999. № 4. С. 48—67.
Говоров В. И. Начала православной арифметики. — М., 2010.
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч: в 14 т. — М.; Л., 1937—1952.
Голованивская М. К. Ментальность в зеркале языка: некоторые базовые концепты в представлении французов и русских. — М., 2009.
Градинарова А., Зарецкий Е. Транзитивация русских глаголов по новым моделям: языковая тенденция или игра со словом? // Болгар. русистика. 2009. № 3—4. С. 123—146.
Граник И. «Я же резолюции одни пишу!» // КоммерсантЪ. 2011. 7 июн.
Гринкевич Ю. В. Восприятие пространства в русскоязычной и англоязычной культурах (на материале пространственно-геометрических концептов круг и квадрат): автореф. дис.... канд. культурол. — М., 2006.
Гунина Л. А. Этноспецифические концепты как отражение национального характера // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. — СПб., 2009. № 97.
Дорофеева Н. В. Удивление как эмоциональный концепт: автореф. дис.... канд. филол. наук. — Волгоград, 2002.
Жакупова А. Д. Осознание фитолексики представителями русской и болгарской языковых культур // Болгар. русистика. 2008. № 3—4.
Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. № 2.
Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. — М., 2005.
Иванов А. О. Безэквивалентная лексика: учеб. пособие. — СПб., 2006.
Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. — М., 2010.
Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. — М., 2011.
Келли К. [пер. с англ. М. Маликовой]. Рец. на кн.: Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005 // Антропол. форум. 2007. № 6. С. 396—405 и далее.
Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов дорюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова. — СПб., 1995.
Клубков П. А. Этимологии Тредиаковского как факт истории лингвистики // Humanitāro zinātņu vēstnesis Daugavpils universitāte. 2002. № 2. С. 58—68.
Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». — СПб., 1999.
Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. — СПб., 2007.
Копылова Т. Р. К определению понятий коммуникация и comunicación: (О некоторых особенностях науч. мышления) // Вестн. Удмурт. ун-та. Филол. науки. 2007. № 5 (2).
Корниенко А. В. Дискурсный анализ: учеб. пособие. — СПб., 2008.
Лекция Кюхельбекера о русской литературе, прочитанная в Париже в июне 1821 г. // Лит. наследство. — М., 1954. Т. 59, ч. 1.
Лобанов В. И. Русская вероятностная логика: азбука математической логики. — М., 2009.
Лобанов В. И. Русская логика — это очень просто. — М., 2007.
Лобанов В. И. Русская логика в информатике. — М., 2010.
Лобанов В. И. Русская логика для «физиков» и «лириков». — М., 2005.
Лобанов В. И. Русская логика для школьников и академиков. — М., 2004.
Лобанов В. И. Русская логика против классической: (Азбука математической логики). — М., 2002.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1952. Т. 7.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1954. Т. 5.
«Любовь» усохла на три четверти: Михаил Эпштейн — о невозврате кредитов русскому языку: [Интервью Е. Дьяковой] // Новая газ. 2009. 15 июл.
Малышев В. Н. Пространство мысли и национальный характер [на тит. л. и 1-й с. обл.: Пространство мысли. Истоки национального характера]. — СПб., 2009.
Мокиенко В. М., Николаева Е. К. Интернациональный фонд русской фразеологической картины мира // Rossica Olomucensia. 2002. T. 40, č. 1. S. 20—21 и далее.
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эссеистика. — М., 1972.
Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя: Русь, Турция, Китай, Европа, Египет: новая матем. хронология древности. — М., 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003. Ч. 4, гл. 15: Исчезновение загадки этрусков.
Овсянников В. В. Американские проблемы в русском менталитете // Вісн. Сумськ. держав. ун-ту. Філол. науки. 2006. № 11 (95), т. 1.
Памятник языку // Крестьянин (Ростов-на-Дону). 2002. 23 окт.
Певная Н. П. Дискурсивное описание русского концепта «достоинство» // Acta linguistica (Sofia). 2009. Vol. 3.
Перевозникова А. К. Россия: страна и люди: лингвострановедение: учеб. пособие для изучающих рус. яз. как иностр. — М., 2006.
Пименова М. В. Принципы категоризации и концептуализации мира // Studia linguistica cognitiva. — М., 2006. Вып. 1: Язык и познание: методол. пробл. и перспективы.
Потебня А. А. Мысль и язык.— Харьков, 1913.
Поэты о русском языке. — Воронеж, 1982, 1989.
Предтеченская Е. А., Соколова Е. В., Шатилова М. О. Готовимся к тексту: пособие по чтению. — М., 2008.
Прямая речь: мысли великих о рус. яз. — М., 2007.
Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: учеб. пособие. — М., 2010.
Радченко О. А. Язык как миросозидание: лингвофилос. концепция неогумбольдтианства. — М., 2006.
Русские писатели XVIII—XIX веков о языке: хрестоматия. — М., 2000, 2006
Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.). — Л., 1954.
Русские писатели о языке: хрестоматия. — Л., 1954, 1955.
Русские писатели о языке: хрестоматия. — М., 2004
Семухина Е. А. Концепт «грех» в национальных языковых картинах мира: автореф. дис.... канд. филол. наук. — Саратов, 2008.
Сергеева А. В. Какие мы, русские? (100 вопросов — 100 ответов): кн. для чтения о рус. нац. характере. — М., 2006.
Сергиева Н. С. Пространство и время жизненного пути в русском языковом сознании. — СПб., 2009.
Слепушкина Е. В. Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов «предупреждение» и «угроза»): автореф. дис.... канд. филол. наук. — Пятигорск, 2007.
Соловьев В. М. Тайны русской души: вопросы, ответы, версии: кн. для чтения о рус. нац. характере для изучающих рус. яз. как иностр. — М., 2001, 2002, 2003, 2009.
Степанова Л. Идея установки памятника русскому языку нашла поддержку в Америке // Кубан. новости (Краснодар). 2002. 24 дек.
Степанова Л. Памятник русскому языку // Кубан. новости (Краснодар). 2002. 24 мая.
Степанова Л. Язык мой — друг мой // Кубан. новости (Краснодар). 2003. 24 мая.
Тарланов З. К. Русское безличное предложение в контексте этнического мировосприятия // Филол. науки. 1998. № 5—6. С. 73.
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие. — М., 2000.
Чернышева А. Ю. Грамматические показатели русской ментальности // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурол. аспект. — Казань, 2004.
Шаховский В. И. Эмоции: долингвистика; лингвистика; лингвокультурология. — М., 2009.
Шевырев С. П. Стихотворения. — Л., 1939.
Шмелев А. Д. Национальная специфика языковой картины мира // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира: (На материале рус. грамматики). — М., 1997.
Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. — М., 2002.
Штельтер О. В этой маленькой корзинке...: игры на уроке рус. яз. — СПб., 2004 [Вып. 1].
Эпштейн М. О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество // Знамя. 2007. № 3. С. 193—207.
Baldauf E. Zu einigen Aspekten des russischen Heimatbegriffs rodina bei A. Wierzbicka und bei russischen kulturgeschichtlichen bzw. lexikografischen Untersuchungen // Anzeiger für slavische Philologie. — Graz, 2006. Bd. 34. S. 23—40.
Eismann W. Gibt es phraseologische Weltbilder?: Nationales und Universales in der Phraseologie // Wer A sägt, muss auch B sägen: Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. — Hohengehren, 2002.
Eismann W. Kultur und Sprache in Russland // Kultur-Wissenschaft-Russland: Beiträge zum Verhältnis von Kultur und Wissenschaft aus slawischer Sicht. — Frankfurt-am-Main u. a., 2000. S. 76—79.
Fomina S. Emotionskonzepte und ihre sprachliche Darstellung in deutschsprachigen und russischen literarischen Texten: Am Beispiel der deutschen, österreichischen, schweizerischen und russischen Literatur // Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 2004. Juni. № 15. URL: http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/fomina15.htm.
Gebert L. Immagine linguistica del mondo e carattere nazionale nella lingua: A proposito di alcune recenti pubblicazioni // Studi slavistici. 2006. Vol. 3. P. 217—243.
Gipper H.Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip?: Untersuchungen zur Sapir-Whorf-Hypothese. — Frankfurt-am-Main, 1972.
Gipper H.Leben und Werk Johann Leo Weisgerbers // Schriftenverzeichnis Leo Weisgerber: Leo Weisgerbers zum 85. Geburtstag. — Münster, 1984. S. 11—32.
Jachnow H. Ist das Russische eigentlich eine besondere Sprache? // Slavistische Linguistik 1986. — München, 1987.
Keijsper C. Typically Russian // Russian linguistics. 2004. Vol. 28, № 2.
Keil R. D. Der Fürst und der Sänger: Varianten eines Balladenmotivs von Goethe bis Puškin // Studien zur Literatur und Aufklärung in Osteuropa: Aus Anlaß des VIII. Internationalen Slavistenkongresses in Zagreb. — Gießen, 1978.
Keipert H. «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык»: Zu Vorgeschichte und Nachwirkung eines Russisch-Stereotyps // Słowianie Wschodni: Między językiem a kulturą. — Kraków, 1997.
Radtschenko O. A. Weisgerberiana sovetica (1957—1990): Ein Versuch der Metakritik des Neuhumboldtianismus bzw. der Sprachinhaltsforschung // Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. 1992. H. 2.2—3. S. 193—211
Roth J. Methodologie und Ideologie des Konzepts der Sprachgemeinschaft: Fachgeschichtliche und systematische Aspekte einer soziologischen Theorie der Sprache bei Leo Weisgerber. — Frankfurt-am-Main, 2004.
Schulte B. «Für den Fortschritt der Menschheit»: Die chinesische Kulturlinguistik erfindet sich selbst // Neue China-Studien. Bd 1: Zwischen Selbstbestimmung und Selbstbehauptung: Ostasiatische Diskurse des 20. und 21. Jahrhunderts. — Baden-Baden, 2008. S. 239—259.
Schulte B. East is East and West is West? Chinese academia goes global // Transnational intellectual networks: Forms of academic knowledge and the search for cultural identities. — Frankfurt/M.; N. Y., 2004. S. 307—329.
Sériot P. Une identité déchirée: K. S. Aksakov, linguiste slavophile ou hégélien? // Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes à Ljubljana, août 2003. — Bern, 2003.
Sériot P. Oxymore ou malentendu?: Le relativisme universaliste de la métalangue sémantique naturelle universelle d’Anna Wierzbicka // Cahiers Ferdinand de Saussure. 2005. № 57. P. 23—43.
Verzeichniss der von A. W. v. Schlegel nachgelassenen Briefsammlung. Nebst Mittheilung ausgewählter Proben des Briefwechsels mit den Gebrüdern von Humboldt, F. Schleiermacher, B. G. Niebuhr und J. Grimm / Hrsg. A. Klette. — Bonn, 1868.
Weiss D. Zur linguistischen Analyse polnischer und deutscher «key words» bei A. Wierzbicka: Kulturvergleich als Sprachvergleich? // Berührungslinien: Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs. Hildesheim u. a., 2006. S. 233—257.
Wierzbicka A. Australian b-words (bloody, bastard, bugger, bullshit): An expression of Australian culture and national character // Le mot, les mots, les bons mots = Word, words, witty words. — Montreal, 1992. P. 21—38.
Wierzbicka A. Russian «national character» and Russian language: A rejoinder to Mondry and J. Taylor // Speaking of emotions: Conceptualisation and expression. — Berlin, 1998. S. 49—54.
Wippermann D. Die Erfassung der Spezifika des Chinesischen: ein Grundanliegen der Grammatikforschung im China des 20. Jahrhunderts // Brücke zwischen Kulturen: Festschrift für Chiao Wei zum 75. Geburtstag. — Münster u. a., 2003. S. 209—226.
Zaretsky Ye. Über einige ethnologische Mythen (am Beispiel des Russischen) // Acta linguistica (Sofia). 2008. Vol. 2, no. 2.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: