
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
ВВЕРЯЕМОЕ СЛОВУ КИНО 1 страница
АРТАВАЗД ПЕЛЕШЯН — армянский кинорежиссер. Родился в 1938 г. в Ленинакане, вырос в Кировакане. Учился в Москве, во Всесоюзном государственном институте кинематографии, в мастерской Л. Кристи. Автор фильмов «Ночной патруль» (1964), «Земля людей» (1966), «Начало» (1967), «Мы» (1969), «Обитатели» (1970), «Времена года» (1975), «Наш век> (1984). Удостоен премий на всесоюзных и международных кинофестивалях. Кинокритики считают его истинным поэтом монтажного кино, учеником Вертова, последователем Эйзенштейна.
Пелешян А. П 246 — Мое кино: Сб. сценариев.— Ер.: Совет, грох, 1988, 256 с.
В сборник видного кинорежиссера вошли его сценарии и теоретическое исследование о монтаже, представляющие огромный интерес для нашего киноведения.
Отдельно даны оценки известных советских и зарубежных кинодеятелей и киноведов о творчестве режиссера.
Книга богато иллюстрирована. Предназначена для специалистов и кинолюбителей.
| ББК 85.374 |
П ■---------------- М. 87
705 (01) 88
© Издательство «Советакан грох», 1988
Артавазд Пелешян доверил Книге свое Кино.
Неожиданный жест художника, в своем творчестве никог-да не взывающего к слову — оно отторгнуто от сферы востор-гов его души и ума сознательно, принципиально, по самой сути своего «Я». Смысловая множественность слова, его игро-вая оборотистость чужды пелешяновской киновязи, где все эле-менты обязаны быть точными и неподдельными в своей досто-верности. В подобном отношении художника к Слову, с одной стороны, признание его мирообъемлющей изобразительной спо-собности, с другой стороны, сознательное отмежевание от силы воздействия его выразительных возможностей. Если звучащее Слово, предстающее в интонации, акценте, тоне голоса, по самой своей сути субъективно и несет в себе самотворящую стихию, значит ему заказан путь к пелешяновскому киномиру, где монополия субъективности и свобода творения предостав-лены лишь ему — режиссеру. Стремление художника достичь I материале чистой документальности не есть, однако, готов-ность подчинения ему, а лишь условие и источник веры и энер-гии — той силы, которая диктует материалу свою волю, пере-ворачивает, перекраивает его, проникает в его нутро. Эта воля
художника к «разрушению» становится, в конечном счете, созидательной, обнаруживающей в правде документа то духовное начало, которое превращает правду в истину.
И все же Пелешян доверился Слову.
Это непонятно, неожиданно для художника, не ведающего компромиссов. Но это столь же поразительно и необычно, как и его фильмы, следовательно, здесь есть причина, глубокий смысл, и остается лишь проникнуться ими, иначе не постичь прекрасной простоты его фильмов, где нет места противоречиям.
Примеров использования Слова в его фильмах до странности мало. Это прежде всего НАЧАЛО и МЫ — слова, которыми озаглавлены два его фильма. Эти заглавия воспринимаются как смысловые обобщения и как сигналы к напряжению внимания. Но режиссеру этого недостаточно. Такую способность заглавия, обычно функционирующего вне художественного текста, Пелешян вводит в фильм «Начало» как фактическую реальность. Слово НАЧАЛО погружается в немоту своего письменного облика, замыкается в кадр, осмысляясь как зримая объективация, графическое изображение невидимого понятия. Выведенное из какого-либо словесного и звукового контекста, НАЧАЛО превращается в однозначное и абстрактное изображение собственного смысла, одновременно указывая на ту идею, которая пульсирует во всех, независимо от их конкретного содержания, кадрах фильма как единое видение и переживание художника. Покидая свое словесное бытие, НАЧАЛО, как таковое, проникает в иную предметную и эмоциональную сферу. Слово НАЧАЛО предопределяет собой зарождающееся и стремящееся к завершению некое действие, в то время как сюжет фильма предотвращает его. Материал произведения- — бурное стремление революционных, говоря словами Чаренца, «неистовых толп к солнцу» — не ограничивается определенной конкретной ситуацией, а становится способным в каждый данный миг стать всеохватывающим, всепоглощающим пафосом мира. Заложенное в понятии «начало» движение становится для режиссера основой художественного обобщения. И невидимая энергия, заключенная в устойчивой стабильности этого слова, транспонируется в ритм во всей неповторимости
своеобразия пелешяновских перекрещений изображения и звука. Этот ритм утверждает идею вечности и непрерывности движения, предстающего в данном случае как человеческая устремленность к свету, солнцу.
В этом смысле слово-заглавие несет в себе отрицание своей однозначности, что, фактически, удостоверяется возвратом титра НАЧАЛО к концу фильма, где слово вбирает в себя всю созданную художником многозначность и своеобразие формы и содержания со всей неповторимостью представлений, мыслей и чувств, конкретизированных в кадрах фильма. Прием и идейный замысел неожиданно и безошибочно находят друг друга, служа осуществлению того содержания, которое реально и истинно лишь в уникальной киноформе этого произведения.
Иной тип существования обнаруживает слово МЫ в одноименном фильме, который, фактически, не озаглавлен. МЫ появляется лишь в финале фильма как постскриптум-обобщение к нему. Здесь Пелешян отказывается от словесного обозначения художественной идеи, каковым явилось прямо указующее на нее слово НАЧАЛО в фильме под тем же названием. Он как бы начинает фильм с конца, превращая идею МЫ в зримое переживание всех от начала до конца кадров, оставляя ее всегда ощутимой, но и искомой, узнаваемой, но и неуловимой. Она — эта идея движется, дробится, множится в кадрах-изображениях маленькой девочки, старой женщины, разноликих людей, величественных гор, застывших в своей безмятежности или низвергающихся, рук, вознесенных вверх, несущих гроб или переворачивающих камни, а в эпизодах похорон и репатриации та же идея перевоплощается в единый, охвативший всех пафос. Режиссерский монтаж превращает каждый из этих кадров в синтез факта и видения, заставляя конкретное и идеальное в их собственной несовместимости вступить в противоборство с их же постоянной устремленностью друг к другу. Так и кадры, в свою очередь, подобно слову-сигналу НАЧАЛО, освобождаются от материальности и, визуально сохраняя реальную форму существования, создают накаленную и заражающую атмосферу всеобщей взаимоотраженности. Взор художника проникает, казалось бы, в случайные предметы, состояния людей, обращая идею МЫ в сущность последних. А в финале фильма


 сама идея вселяется во внешне чуждые ей и неслиянные с ней изображения, как бы самоосознавая себя.
сама идея вселяется во внешне чуждые ей и неслиянные с ней изображения, как бы самоосознавая себя.
В этом смысле мгновенное возникновение титра МЫ лишь в финале фильма становится фиксацией «восторженно мечтательного экстатического жеста», указующего на суть а смысл произведения. Так реализуется присутствие созидательной воли художника, пребывающей в своем свободном самовыражении вне сферы зримого. Это тот дух, красота и истинность которого позволяют каждому единичному «Я», приобщившемуся к фильму, слиться со всеобщим МЫ. Именно поэтому финальное МЫ не воспринимается как формальный прием занавеса, опускающегося над миром фильма, а приобретает значение вопроса, направленного с огромной эмоциональной силой к уму и чувствам людей и открытого для вечно новых толкований и переживаний.
Содержание и художественная атмосфера другого фильма Пелешяна «Времена года» как бы провоцируют появление Слова на экране в виде субтитров. Если в вышеуказанных случаях режиссер, извлекая идею из глубин слова и растворяя ее в звуке и изображении, «уничтожал» внешний облик слова, то здесь он восстанавливает его. Способность Слова зримо представлять идею становится фактом, чему всегда отдает предпочтение режиссер.
Тема этого фильма — противоборство человека и природы. При этом диктует и властвует природа, принуждающая человека к напряженному сопротивлению и действию в борьбе за существование. Она закаляет волю человека, творит и фактически сотворяет его сущность по собственному образу и подобию. В человеке, как в зеркале, светится природа, в природе — человек. И через это взаимоотраже-ние осуществляется восприятие и сопереживание друг друга — обоюдоострое и монументальное. И этот сверхнапряженный диаг лог с природой режиссер превращает в насущно необходимый страстный монолог-размышление самоутверждающегося человека, неотвратимо жаждущего возвращения нарушенной гармо' нии — но не между собой и природой, а в себе самом — той самой гармонии, с обретением которой восстановится примирение человека с природой, что равнозначно возрождению природы
человека. Таким образом, «Времена года» осмысляется как извечный ход жизни, непрерывная круговерть бытия в большом времени года — века, человеческой жизни.
Эта смысловая и эмоциональная действительность и рождает субтитры: УСТАЛ, ДУМАЕШЬ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ЛУЧШЕ? ЭТО ТВОЯ ЗЕМЛЯ, попеременно появляющиеся в фильме. Ни одно из этих выражений не является дубликатом или обобщением образного и звукового ряда предшествующих им отрезков фильма. В них, напротив, как бы объективизируются выхваченные из зримого потока мгновенные и определенные состояния и переживания. Если в случаях с МЫ и НАЧАЛО режиссер обыгрывает и превращает в киноматериал абстрагирующую силу Слова, то здесь пускается в ход магическое умение Слова обращать все незримое, неощутимое в физическую твердь.
Слово становится образом, самотворящей стихией, заставляющей зрителя мысленно переосмыслить и заново пережить прошедшие эпизоды, кадры. При этом предрешенные Словом новые смысловые и эмоциональные слои при всей их открытости для восприятия, воображения и чувств сохраняются режиссером в таком состоянии, что снимается любая возможность для зрителя предощутить, каков будет следующий эпизод. Внезапность появления и непродолженность Слова-изображения не дают ключа к его подлинному смыслу, который слит, разлит по всей структуре фильма.
Вне фильма выражение УСТАЛ не имеет художественной ценности, в нем нет глубины и многозначности. В своей конкретности и информационной однозначности оно ничто. Но в контексте фильма, где во взаимной и обоюдоострой схватке отстаивают себя человек и природа, прямая противоположенность Слова этой охватившей их безудержной и неустанной страсти обнаруживает другой ее лик. Благодаря неадекватности Слова, порожденному им же самим смыслу в киноленте и лаконичности его формы, оно понимается как афористическое изречение, реальное лишь для этого фильма. Изречение, которое, благодаря тому, что не фиксирует ни одно из описанных в картине состояний или переживаний, остается абстрактной мыслью. Оно не конкретизируется режиссером применительно к какому-либо
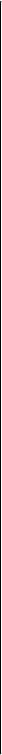 персонажу, не вкладывается в его уста. И неизреченное выражение, не ставшее высказыванием, теряет свой индивидуализированный и субъективный характер. Оно не соотносимо ни с кем, не принадлежит никому. Это — незримая, духовная идея, творящая фильм. Она всевластна, способна вобрать в себя все местоимения, преобразоваться в воображаемого собеседника, которому и адресуется вопрос-размышление: ДУМАЕШЬ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ЛУЧШЕ? И на миг Слово-изображение становится видением: «я» и «ты» связываются неразрывной нитью, а с ними и весь разноликий человеческий мир. И выражение ЭТО ТВОЯ ЗЕМЛЯ порождается ритмом этой идеи. Таково то исключительное и восхитительное видение, с которым сращено пелешяновское МЫ, то всеохватывающее око, которое вправе в своем времени узреть НАШ ВЕК.
персонажу, не вкладывается в его уста. И неизреченное выражение, не ставшее высказыванием, теряет свой индивидуализированный и субъективный характер. Оно не соотносимо ни с кем, не принадлежит никому. Это — незримая, духовная идея, творящая фильм. Она всевластна, способна вобрать в себя все местоимения, преобразоваться в воображаемого собеседника, которому и адресуется вопрос-размышление: ДУМАЕШЬ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ЛУЧШЕ? И на миг Слово-изображение становится видением: «я» и «ты» связываются неразрывной нитью, а с ними и весь разноликий человеческий мир. И выражение ЭТО ТВОЯ ЗЕМЛЯ порождается ритмом этой идеи. Таково то исключительное и восхитительное видение, с которым сращено пелешяновское МЫ, то всеохватывающее око, которое вправе в своем времени узреть НАШ ВЕК.
Внутрикадровая статика субтитров с их общим содержанием делает обратный ход. Невысказанное в кадре безмолвное слово — фактический момент покоя в динамичном звуковом эпизоде — неожиданно транспонируется в статус сопротивления инерции звука, движения, что заставляет по-новому осмыслить и пережить вызванные до этого мысли и чувства. Таким образом, слово для прошедших кадров приобретает ретроспективную, а для будущих — перспективную динамику. Оно действенно и зримо функционирует как след идеи фильмотворения. Сама же идея, узнавшая себя в движении, изображении, звуке, а в данном случае в слове остается всегда выше них, не равняется им, хотя и обретает реальность, истинность лишь в них и через них. Это и есть, быть может, один из тех, по выражению Пелешяна, «несуществующих кадров», которые «присутствуют» в его фильмах.
Следовательно, Пелешян доверился Кино. Но на сей раз без кино. Если искусство, материализуясь, живет в «кажимости», то киноискусство — тем более. Его бытие подобно магическому сеансу, и общение с ним реально лишь при условии погружения в темноту, когда взор вперен в луч света, тот самый, благодаря которому и вызываются на белое полотно призраки, призванные сообщиться с твоим умом и сердцем. А они приобретают способность говорить языком прекрасного лишь при
наличии таких обязательных средств, как движение, звук, изображение. Без всего этого нет той особой атмосферы иллюзорности, того особого характера правдоподобия, благодаря которому кинопроизведение и получает свое особенное содержание, пульсирующий ритм которого животворит неповторимый, чувственный образ, способный вызвать эстетическое переживание и наслаждение у своего зрителя.
Книга, в которой представлены сценарии фильмов Пелешяна, лишена магического воздействия его кино. О нем свидетельствуют отклики, высокие оценки, данные критиками пеле-шяновским фильмам: поэтический, музыкально-пластический, чисто кинематографический и т. д.
Как автор книги Пелешян и не пытается возместить эту потерю посредством обращения к законам и формам искусства Слова, не пробует перекладывать в литературу то, что истинно и правдиво лишь в киноформе. Нет и следа претензии на литературу — и не только в эпиграфически сжатом и строгом изложении сценариев «Начало», «Мы», «Наш век», но и в полном эпитетами и образными выражениями слоге «Времен года», «Обитателей», особенно «Homo sapiens». Пелешян сохраняет неукоснительную верность Кино даже вне кино, ибо Кино для него более чем стихия творческого вдохновения. Кино — его органика и суть, сфера его ума и чувств, неотделимых от его сущности, тайна и таинство его бытия.
В ситуации, когда отказ от кино вынужденный, а от литературы сознательный, эта верность художника самому себе — его единственный выход. Книга становится хранилищем идеи его кинематографа, который выступает то в простом в своей безыскусности, то в ореоле художественности слове. В последнем случае режиссер неизменно ограничивает произвольную автономность образности слова, обращая ее в средство, еще раз подчеркивающее достоверную конкретность предмета, явления. Ему надо, чтобы слово лишилось литературной формы и окружения, оказалось в чужеродной для него атмосфере с тем, чтобы читательский глаз воспринял и почувствовал эту аномалию, это явное отклонение. Подобным образом он достигает иллю-зии, которая, словно тень, неотделима от его изложения, где слово при всей своей определенности становится тайнописью
 кинозамысла, и, лишь узрев эту тень, можно расшифровать кинотекст, заложенный в этих словесных знаках.
кинозамысла, и, лишь узрев эту тень, можно расшифровать кинотекст, заложенный в этих словесных знаках.
Книга переносит киноискусство в мир наших представлений. Являя нам свое Кино в инобытии Книги, Пелешян надеется пробудить и пробуждает воображение читателя, внутреннее зрение, которое способно будет ощутить в идеографии кино его дух и сущность. И чтение его сценариев становится моментом сосредоточенности мысли и чувств, силящихся достичь почти невозможного — умственным взором постичь красоту фильма, возродить и пережить то, что живет лишь на экране, узреть определенный смысл и форму словесно представленных кинематографических образов пелешяновских подлинников.
Сценарии в этом смысле — не простые описания фильмов. Они содержат намек на истинное содержание пелешяновских киноподлинников, хотя в них высвечиваются лишь основные опорные точки этого содержания, уточняются тема и предметный состав изображений, что свидетельствует об исключительном владении режиссером своим материалом. Когда Пелешян при этом сопрягает никогда не пересекающиеся в действительности инородные и разнотипные предметы и явления, создается впечатление такой безграничной свободы и безмерного произвола е выборе и охвате материала, что кажется и здесь нет никакого «избирательного сродства», а лишь одна открытость любому случайному явлению, любой натуре, особенно при использовании столь излюбленного режиссером документального материала. Между тем пелешяновский объектив столь строг и безошибочен в просеивании материала, что все изображения, оказавшиеся в поле его зрения, при всей их отторгнутости и изолированности от реальных связей, приобретают в кинобытии качество нерукотворной первозданности и подлинности.
Как холодное «безразличие» изложения сценариев «Начало», «Мы», «Наш век», так и эмоциональность слога «Времен года» и «Homo sapiens» содержат в себе некую затаенную прелесть. В них читателю предоставлена привилегия приобщения к процессу овладения материалом, что, обычно, сокрыто от «постороннего» взгляда в любом из искусств.
Фактически, сценарии вовлекают читателя в тайну творче-. ства. Проникая через слово в едва уловимые в изложении ха-
рактер и содержание пелешяновского киновидения, читатель е меру своего воображения и интуиции становится очевидцем и участником создания кино. Это сотворчество как бы явно провоцировано применением единого творческого принципа и метода во всех сценариях, создающих для читателя иллюзию реализации пелешяновского кино. Однако, как это ни соблазнительно, опорой тому не могут послужить даже помещенный в книгу монтажный лист фильма «Мы» со всей четкой обозначен-ностью в нем последовательности и длительности всех до единого кадров, как и толкование, предложенное самим режиссером в его исследовании «Дистанционный монтаж». Своей прозрачной ясностью они, с одной стороны, способствуют пониманию пелешяновского кино, с другой, — исключают возможность адекватного воссоздания его выразительности. Причина в том, что киносценарий является переложением одной лишь идеи киноформы и киносодержания, только строй этой идеи, сокрытый в складках покрова мысленных образов, и может объективизироваться в словесной ткани.
Замысел художника, неведомыми путями завладевший им, бурлит в нем, будоражит его, переходя в такое состояние, которое стремится выйти наружу, найти свое внешнее проявление. Киносценарий является только замыканием этого замысла в твердую и устойчивую словесную оболочку, укрощением этого порыва. А кино, более чем какое-либо из искусств, требует и понимания, и осознания этого процесса, ибо в нем освоение материала и его художественное формирование осуществляются не синхронно — между ними огромная дистанция, опосредованная множеством требований технического и нетехнического характера.
Киносценарий рождается в момент этой временной и вынужденной отдышки, между вспышкой вдохновения и творческим актом, становясь фактическим свидетельством нереализованного озарения. В этот момент режиссер-сценарист траве-стируется в зрителя, замысел отстраняется от него, преобразуясь в сказ, побуждающий к размышлению. Так, сам режиссер становится единственным свидетелем и первым сказителем того, что существует лишь в нем самом. В этом смысле под всеми сценариями, автором которых является Пелешян-режиссер,
 | |||
 |

|
может быть написано: «с подлинным верно». Сравнивая и сопоставляя заснятые им фильмы с их же сценариями, становится очевидной безошибочная направленность режиссера на сохранение верности своему замыслу, его сила и умение сопротивляться материалу, подчинять материал себе.
Однако в этом процессе киносценарий выступает то как отождествление-отчуждение кинообраза, то как концентрация-сокрытие чувств, то как эхо духовного содержания, заключенное в слове.
Пелешяновское кино пребывает в сценарии в беспокойном от собственной неполноты состоянии, когда осознанное содержание при всей своей конкретности и точности остается абстрактным и односторонним. И это содержание, при крайне чуждой ему литературности, становится опровержением собственного бытия в слове, стремится вернуться к своему истоку, жаждет влиться в него, обрести свою целостность и полноту. Однако в этом стремлении форма и содержание фильма, при всей очевидной их предрешенности, остаются непредсказуемыми, пока пребывают вне сферы кинозвука, движения, изображения. Так что режиссер в этом смысле стоит перед созданным им же материалом — киносценарием, как некий импровизатор, который уповает не на многообразие вариантов, а на точность и правдивость уникального подлинника, адекватного вспышке его души и мысли.
Только в этом плане, преступаемая в сценариях разъединенная сущность пелешяновского кино соединяется с собственным бытием, находит свой неповторимый, уточненный художественным чутьем образ. Так художник преднаходит в себе самом форму для реализации овладевшего им содержания, и сосредоточенный в сценариях материал воскресает в большом и прекрасном кино Артавазда Пелешяна.
АНЕЛКА ГРИГОРЯН

|
Если бы не дыло Горы Арарат, То и голуби Ноя Могли стать воронами.

|
50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Раздаются глухие, тревожные удары колоколов. Старая, дореволюционная Россия. Голод... разруха... нищета... гнет...
Встречаются представители иностранного и местного капитала и дворянства. Интервенция... Застывшая масса людей. Трехглавый орел — символ царской России. Пулеметная очередь... Руки, высвеченные огнем. Вновь — застывшая масса людей. Опускается крест. Пулеметная очередь... Руки, высвеченные огнем.
Звучит энергичная ритмичная музыка.
Оживает и приходит в движение застывшая масса людей.
«НАЧАЛО»
Раздувая ноздри, быстро летит русская тройка.
По заснеженному полю мчатся оленьи упряжки.
Спускаются с гор люди на телегах и быках.
По волнистому песку пустыни скачет человек на верблюде.
Группа крестьян несется по деревенским улицам.
Разбрасывая листовки, мчатся трамваи и машины.
Люди живой рекой струятся из проходных заводов, из переулков и улиц и толпой вливаются в единый бурный поток.
Несколько раз мелькает образ великого вождя — Ленина.
Взмахом руки он как бы указывает направление движения революционных масс.
Открываются ворота Зимнего дворца.
Гудят заводские гудки...
Гудят пароходы...
Гудят паровозы, оставляя за собой расползающиеся по не. бу громадные полосы черного дыма.
Похороны 26-и бакинских комиссаров.
Плачет мать...
Мчится тачанка...
Скачут всадники...
Вихрем проносятся красные конники...

|
Быстро кружится карусель-Один за другим с нее выбрасываются люди.
На поле боя падают солдаты...
Раздаются выстрелы...
Печальное лицо смотрит в упор.
Темп звучащей музыки постепенно замедляется...
Слышатся траурные заводские гудки.
Все останавливается.
Похороны Ленина.
Люди в скорбном молчании. Здесь — Сталин, Крупская, Дзержинский, Клара Цеткин.
Вновь все приходит в движение.
Снова звучит оборванная знакомая нам ритмичная музыка.
Мчится первый автомобиль «АМО»... За ним несутся люди.
Мчится первый трактор...
Мчится паровоз...
Мчится самолет...
Рядом с ними несутся люди, стараясь не отстать от них.
Бешено крутится колесо...
Мелькают камни... краны... вагонетки... конвейеры... суда...
Ликует народ.
Сквозь падающие листовки люди встречают своих героев: Чкалова, Байдукова, Белякова.
Вытягиваясь во весь рост, появляются молотобойцы. Они высоко поднимают руки и застывают в этой позе.
Дефилируя жезлами, марширует фашистская армия.
Взрываются дома... здания... города...
Звучат одинаковые аккорды музыки.
Наносят удары молотобойцы.
От каждого удара падают фашистские знамена.
Снова бегут люди.
Строятся дома.
Выпускается миллионный трактор.
Народ встречает своих новых героев—космонавтов.
Растет движение...
Все быстрее и быстрее несутся люди.
И тут, как гром, раздается мощный взрыв.
Люди застывают в движении.
Слышатся тревожные глухие удары.
Сжигают крест куклуксклановцы.
Бесчинствуют реваншисты.
Маршируют неофашисты.
Люди молятся о мире.
Взрывается атомная бомба.
Поднимается в небо военная ракета.
Бегут негры... арабы... кубинцы... вьетнамцы...
Вновь из единиц, десятков, сотен людей собираются многотысячные массы.
Сталкиваются две противоборствующие силы.
Звучат одинаковые музыкальные аккорды.
Ломаются полицейские преграды.
Открываются заградительные ворота.
Все яростнее и быстрее бегут люди.
Они живой рекой струятся из разных концов, из разных переулков и улиц и толпой вливаются в единый бурный поток.
Вновь раздаются выстрелы...
Руки, высвеченные пулеметным огнем.
Вытягиваясь во весь рост, снова появляются молотобойцы.
Последний музыкальный аккорд.
И вновь —
«НАЧАЛО».
В актовом зале ВГИКа. После присуждения "Гранпри" на 5-ом кинофестивале ВГИКа. 1967r.

|
Темно...
Под тревожные звуки оркестровой музыки появляется из темноты застывшее лицо маленькой девочки с растрепанными волосами. Она скорбным взглядом смотрит перед собой и вновь медленно растворяется в темноте.
Раздаются прерывистые вздохи — тихие, напряженные.
Из темноты, то появляясь, то исчезая, наплывают черные силуэты больших гор.
Вздохи, постепенно нарастая, переходят в крик.
Один за другим надвигаются могучие величественные горы, высокие хребты, крупные вулканические массивы с выступающими острыми вершинами.
Звучит мягкое хоровое пение.
Многочисленные руки, поднятые над головами, несут гроб.
Неистово ревущие морские волны, высоко вздымаясь, обрушиваются на утесы.
Сменяя друг друга, люди несут гроб.
С сильным грохотом низвергаются большие горы.
По улице города движется похоронная процессия.
Пронести на своих руках гроб с телом, видимо, всем очень близкого и уважаемого человека, каждый считает своим почет-ным долгом. Поэтому сотни новых рук тянутся к гробу. Руки эти трудно различить, все новые и новые тянутся к драгоцен-ной ноше.
Город провожает в последний путь человека, имя которого дорого каждому в этой многотысячной толпе.
Движется бесконечный людской поток.
Вдоль тротуаров длинной стеной стоят люди с обнаженными головами и в траурном молчании провожают процессию.
Машины с трудом прокладывают себе путь, а люди медленно расступаются перед ними.
Со всех сторон все больше и больше людей вливается в ряды идущей процессии.
Она колышется, как морские волны, заполнив до отказа все улицы и площади.
Величаво и плавно поворачивается скульптура надгробного «Ангела».
Медленно спадает траурный тюль.
Город в утренней дымке.
Один за другим мозолистые руки вырывают каменные глыбы из земли.
Рабочий, в пыли и в поту, налегает на большой гаечный ключ. С тяжелым скрежетом приходят в движение колеса элек_ тропоезда, стуча на стыках рельсов.
i
Рука рабочего поворачивает рычаг.
По бетонной дорожке катятся самолеты, выруливая в сторону взлетной полосы.
Вращаются электрические генераторы.
Большие механические ножницы с тяжелым скрежетом ре_ жут толстые листы металла.
Группа каменщиков обрабатывает гигантский кусок гранита.
Повиснув в воздухе, красят высокую мачту маляры.
Люди тянут за веревки большой бетонный шпиль—для установки на крыше высокого здания.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: