
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
S | g g fSiS^gSgrnS 3 страница
Немецкий музыковед Ульрих Дибелиус в книге «Новая музыка» поставил перед читателями целый ряд полемически острых вопросов. Один из них формулируется так: из звуков или идей слагается музыка? Автор критикует философов и эстетиков, которые, обращаясь к музыке, пытаются услышать в ней отзвук социальных конфликтов, политических манифестов, современных настроений и иллюзий. Книга была написана в середине 60-х гг., когда подозрительное отношение к идеологии было широко распространенным. Но полвека спустя в эстетике нередко возникают отголоски этой концепции. Звуки чужды идеям, умозаключает немецкий ученый, они служат стенограммой вечности. Тщетно и бесплодно, по его мнению, искать в музыкальном искусстве то, что воплощает каскад сегодняшних тенденциозных идей. Музыка говорит с вечностью.
Наивно было бы оспоривать вполне тривиальную мысль Дибе-лиуса о том, что музыка — искусство звуков. Разумеется, в музыке далеко не всегда можно найти четкую связь с актуальными политическими и социальными идеями, наглядное изображение реальности. Вспомним знакомые пушкинские строки:
Представь себе... кого бы? Ну, хоть меня — немного помоложе; Влюбленного — не слишком, а слегка — С красоткой или другом — хоть с тобой, Я весел... Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак иль что-нибудь такое... Ну, слушай же.
Моцарт пытается передать Сальери содержание своего сочинения. Но слова воссоздают лишь приблизительное впечатление, получаемое от музыкального произведения. Только воображение помогает войти в строй музыки. Не давая зримой картины реально-
фантастический гротеск и трагизм. Авангардизм 237
 сти, это искусство развертывает присущий ему дар глубокого эмоционального постижения жизни.
сти, это искусство развертывает присущий ему дар глубокого эмоционального постижения жизни.
Музыка — это поэзия звука. Но она вовсе не враждебна, не чужеродна идеям, как это утверждает Дибелиус. Музыкальное искусство фиксирует в общественном сознании определенные ценности и идеалы, теснейшим образом связанные с мировоззрением той или иной эпохи. Пытаясь оспорить очевидную связь музыки с социальными конфликтами, с конкретными идейными манифестами, многие исследователи предлагают следующую теоретическую схему: музыка не принадлежит отдельной эпохе, давно отошли в историю те или иные политические, идеологические течения, а искусство гармонии продолжает восхищать все новые и новые поколения людей. Стало быть, именно общечеловеческое содержание составляет смысл музыки. Поэтому в ней самой надлежит искать существо этого вида художественного творчества.
Но общечеловеческие ценности рождаются не за пределами истории. Они возникают в социальных противоборствах конкретной эпохи, в коллизиях определенной исторической ситуации. Например, «Героическая симфония» Людвига ван Бетховена (1770—1827), воспринимаемая нами и сегодня как эталон высокого, гражданского искусства, отнюдь не утрачивает изначальной связи с революционными событиями 1789 года во Франции и антифеодальным движением в Рейнской области.
Вполне понятно, что зависимость музыки от эпохи, породившей ее, может оказаться переосмысленной в новой социальной ситуации. Здесь не должно быть упрощений. Мы помним, что творчество Вагнера и Бетховена фашисты пытались использовать в собственных антигуманных целях. Но именно это убеждает нас: музыка, ее место и роль в обществе не могут быть идейно нейтральными, безразличными к реальной социальной динамике, к расстановке противоборствующих общественных сил.
Что касается экспрессионизма, то он провозглашает отход от изображения объективной реальности. Присущий экспрессионистам крайний субъективизм проявляется в склонности к иррациональным, мистическим, патологически-пессимистическим мотивам. Эстетика экспрессионизма представлена творчеством композиторов нововенской школы, прежде всего А. Шёнберга и А. Берга. Их искусство приковывало внимание к таким аспектам психологической жизни человека, которые не претендовали на статус общезначимости. Воссоздание своеобразной музыкальной «психостенограммы» было главной задачей композиторов-экспрессионистов.
Тема 14
фантастический гротеск и трагизм. Авангардизм


 Внутренний мир художника служил источником вдохновения для экспрессионистов. Особое внимание приобретали неуловимые, уникальные эмоции, извлеченные из скрытых пластов бессознательного. Все высказывания экспрессионистов пронизывает своего рода вопль отчаяния, вызванный паническими представлениями о резко сместившемся соотношении действительности и личного сознания.
Внутренний мир художника служил источником вдохновения для экспрессионистов. Особое внимание приобретали неуловимые, уникальные эмоции, извлеченные из скрытых пластов бессознательного. Все высказывания экспрессионистов пронизывает своего рода вопль отчаяния, вызванный паническими представлениями о резко сместившемся соотношении действительности и личного сознания.
Экспрессионизм стал одной из форм индивидуалистического бунта против абсурдности современного мира, позитивного выхода из которой художник не видел. Отсюда резко критическое отношение экспрессионистов к идеалам классического и романтического искусства, которые перед лицом реального социального зла воспринимались как благодушные иллюзии. В центре внимания искусства экспрессионизма оказывались болезненные состояния души, порожденные страхом и отчаянием, тем более что вызревало оно в период Первой мировой войны. Беспощадный анализ негативных явлений реальности, идея сострадания к «униженным и оскорбленным» внесли в искусство экспрессионизма острую обличительную струю. Экспрессионистским музыкальным сочинениям свойственны разорванность мелодики. Крайняя напряженность эмоционального строя обнаруживается в предельно заостренных контрастах настроений — от сгущенно-мрачных, бредовых до инфантильно-просветленных. Лирика предстает в музыке либо в огрубленно-гротесковом виде, либо связывается со смутными видениями нервно-взвинченной психики.
Экспрессионисты применили в своем творчестве своеобразный метод музыкального мышления, который получил название додекафония. Додекафония — это двенадцатизвучие, или композиция на основе 12 соотнесенных между собой тонов, или серийная музыка, метод музыкальной композиции, разработанный представителями нововенской школы (Арнольд Шёнбер, Антон Веберн, Альбан Берг) в начале 20-х гг. прошлого столетия.
История развития музыкального языка конца XIX в. — «путь к новой музыке», как охарактеризовал его сам Веберн, был драматичен и тернист. Как всегда в искусстве, какие-то системы устаревают и на их место приходят новые. В случае с экспрессионизмом на протяжении второй половины XIX в. постепенно устаревала привычная нам по музыке Моцарта, Бетховена и Шуберта так называемая диатоническая система, т.е. система противопоставления мажора и минора. Суть этой системы заключается в том, что из 12 звуков, которые различает европейское ухо (так называемый темперированный строй) можно брать только 7 и на их основе строить композицию.
Постепенно к концу XIX в. модуляции, т.е. переходы в родственную тональность, отличающуюся от исходной понижением или повышением на полтона, стали все более смелыми, композиторы, по выражению Веберна, «стали позволять себе слишком много». И
вот контраст между мажором и минором постепенно стал сходить на нет. Это начинается у Шопена, уже отчетливо видно у Брамса, на этом построена музыка Густава Малера и композиторов-импрессионистов Дебюсси, Равеля, Дюка.
К началу XX в. композиторы-нововенцы, экспериментировавшие с музыкальной формой, зашли в тупик. Получилось, что можно сочинять музыку, используя все двенадцать тонов: это был хаос — мучительный период атональности1. Из музыкального хаоса было только два выхода. Первым — усложнением системы диатоники — пошли Стравинский, Хиндемит, Шостакович. Вторым, жестким путем, пошли нововенцы. Они создали целую систему из фрагментов старой системы. Дело в том, что к концу века в упадок пришел не только диатонический принцип, но и сама классическая венская гармония, т.е. принцип, согласно которому есть ведущий мелодию голос, а есть аккомпанемент. В истории музыки венской гармонии предшествовал контрапункт, или полифония, где не было иерархии мелодии и аккомпанемента, а были несколько равных голосов.
Нововенцы решили организовать музыку по-новому. Не отказываясь от равенства 12 тонов (атональности), Шёнберг ввел правило, в соответствии с которым при сочинении композиции в данном и любом опусе должна пройти последовательность из всех повторяющихся 12 тонов (эту последовательность стали называть серией. Итак, серийная техника — способы применения серии для создания художественного произведения.). Серийная техника используется многообразно. Один из наиболее общих ее принципов — непрерывное повторение серии. Вся ткань произведения составляется из сплетения серийных рядов, подбираемых из общего числа (48) по принципу того или иного взаимодействия друг с другом. В сочинениях такого рода нет ничего, что не было бы выведено из серии.
Впоследствии ученики Шёнберга — Веберн и Берг — отказались от обязательного 12-звучия серии (ортодоксальная додекафония), но саму серийность сохранили. Теперь серия могла содержать сколько угодно звуков. Например, в «Скрипичном концерте» Берга серией является мотив настройки скрипки. Серия стала автологичной, она превратилась в рассказ о самой себе. Серийная музыка развивалась активно до середины прошлого столетия. Ей даже отдал щедрую дань мэтр противоположного направления Игорь Стравинский. К более радикальным системам в 60-е гг. пришли французский композитор и Дирижер Пьер Булез и немецкий композитор Кар.гхейнц Штокгаузен.
 Руднев В П. Словарь культуры XX века. С. 86.
Руднев В П. Словарь культуры XX века. С. 86.
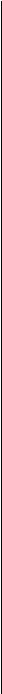
Тема 14
Акмеизм
Акмеизм — один из терминов (вначале использовалось также название «адамизм»), предложенный в 1912г. Н.С.Гумилевым (1886— 1921) и СМ. Городецким (1884—1967) для обозначения нового литературного направления, идущего на смену символизму, который переживал кризис. Чаще всего акмеистами называют шестерых поэтов. Но даже и на этот счет нет единого мнения. Некоторые авторы вообще отказывали акмеизму в праве считаться литературным направлением, признавая его новой ступенью символистской поэтики. Термин «акмеизм» был слабо аргументирован в манифестах. Краеугольные установления акмеистских манифестов далеко не всегда соблюдались на практике даже главными его участниками. Помимо руководителей в группу входили А.А. Ахматова, В.И. Нар-бут, О.Э. Мандельштам и М.А. Зенкевич. «Седьмого акмеиста, — как любила повторять А. Ахматова, — не было». Заоблачной дву-мирности символистов акмеисты противопоставили мир простых житейских чувств и повседневных душевных переживаний.
Называя себя адамистами, акмеисты имели в виду первочелове-ка Адама, «голого человека на голой земле». Вот что писала Анна Ахматова, из ничего делая что-то, по определению одного из ее почитателей.
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда 6 вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Однако не следует думать, будто поэзия Ахматовой отличалась демонстративной простотой. За обычным житейским взглядом на мир скрывались энергия, душевный поиск, даже героическая жертвенность.
Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар — Так молюсь за Твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей.
То же самое можно сказать и о Осипе Мандельштаме (1891—1938). Он добивался предельной ясности в словах (в отличие от усложненного языка символистов). Одно из его ранних произведений (1908):
фантастический гротеск и трагизм. А вангардизм__________ 241
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
Однако постепенно поэзия Мандельштама, как и Ахматовой, усложняется. Эволюция его творчества связана с внутренней борьбой с пессимистическими настроениями.
Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.
И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.
Итак, речь шла о трех направлениях в искусстве прошлого века — символизме, экспрессионизме и акмеизме. Что их объединяет? Отказ от канонических форм искусства, от привычных форм самовыражения, поиск нового языка. Но вместе с тем в творчество входит нервная трепетность, отчаяние, горечь и глубокое разочарование. Так разыгрывается трагизм века, который Осип Мандельштам назвал «веком-волкодавом».
Модернизм открыл дорогу авангарду. Далее речь пойдет о футуризме, сюрреализме и дадаизме. Эти направления вобрали в себя скорости века, его стремительность, его грандиозный забег в будущее.
Футуризм
Футуризм — одно из течений в искусстве авангарда XX в. Наиболее полно реализован в формалистических экспериментах художников и поэтов Италии и России (1909—1921) хотя последователи футуризма были в Испании (с 1910), Франции (с 1912), Германии (с 1913), Великобритании (с 1914), Португалии (с 1915), в ряде славянских стран.
Футуризм провозгласил демонстративный разрыв с традициями: «Мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом», — утверждал итальянский поэт Ф.Т. Маринетши (1876—1944) со страниц французской газеты «Фигаро». Маринетти — глава и теоретик футуризма. Он выводил футуризм за пределы собственного художественного творчества — в сферу социальной жизни, сотрудничал с итальянским дуче — Муссолини.
В первом «Манифесте футуризма» (1909) Маринетти сформулировал идеи, которые нашли полное понимание и поддержку в идео-

Тема 14
 логии национал-социалистов, а в начале Второй мировой войны были реализованы. Особое чутье художника дало возможность Ма-ринетти предсказать и выразить некоторые мощные тенденции, которые тогда были едва уловимы. Вот этот манифест.
логии национал-социалистов, а в начале Второй мировой войны были реализованы. Особое чутье художника дало возможность Ма-ринетти предсказать и выразить некоторые мощные тенденции, которые тогда были едва уловимы. Вот этот манифест.
£О 1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!
2. Смелость, отвага и бунт — вот что воспеваем мы в своих стихах.
3. Старая литература воспевала леность мысли, восторги и без
действие. А вот мы воспеваем наглый отпор, горячечный бред,
строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой.
7. Нет ничего прекраснее борьбы. Нет наглости без шедевров.
Поэзия наголову разобьет темные силы и подчинит их человеку.
8. Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться
назад? Ведь мы вот-вот прорубим окно прямо в таинственный мир
невозможного! Нет теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живем
уже в вечности, ведь в нашем мире царит одна только скорость.
9. Да здравствует война — только она может очистить мир.
Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная
сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! До
лой женщин!
10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мо
раль трусливых соглашателей и подлых обывателей!
11. Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтар
ский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря в
наших столицах; ночное гудение в портах и на верфях под слепя
щим светом электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокза
лов заглатывают чадящих змей. Пусть заводы привязаны к облакам
за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты гимна
стическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую
под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают го
ризонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе
из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэро
планы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и
рукоплесканиями восторженной толпы».
Любопытно, что именно знакомство с манифестом футуристов позволило американскому философу Эриху Фромму (1900—1980) создать своеобразную типологию людей. Он выделил среди них биофи-лов, т.е. людей, которых характеризует страстная любовь к жизни и ко всему живому. Это желание способствовать развитию и расцвету любых форм жизни. Содержание понятия «биофил» у Фромма не тождественно характеристике жизнелюба, воссозданного, скажем,
фантастический гротеск и трагизм. Авангардизм 243
 художественной литературой. Оптимизм, наслаждение жизнью — доминирующие психологические черты в образе Фальстафа или Дон-, Жуана. Биофильство же, как его трактовал американский исследова-, тель, — это глубокая жизненная ориентация, которая пронизывает все существо человека. Биофил не способен к тому, чтобы «разъять» действительность, увидеть ее в одном измерении. Принимая жизнь во всей ее целостности и полноте, ощущая сложность течения жизни, биофил ориентирован на то, что противостоит смерти.
художественной литературой. Оптимизм, наслаждение жизнью — доминирующие психологические черты в образе Фальстафа или Дон-, Жуана. Биофильство же, как его трактовал американский исследова-, тель, — это глубокая жизненная ориентация, которая пронизывает все существо человека. Биофил не способен к тому, чтобы «разъять» действительность, увидеть ее в одном измерении. Принимая жизнь во всей ее целостности и полноте, ощущая сложность течения жизни, биофил ориентирован на то, что противостоит смерти.
Черты биофила мы обнаруживаем у многих людей. Проиллюстрируем данное утверждение ссылкой на кинофильм «Дантон» польского режиссера Анджея Вайды. Режиссеру, как он сам рассказывал о своем замысле, было интересно уловить момент, когда цели революции предаются забвению и начинается борьба за власть под лозунгом: революция может победить лишь в том случае, если у нее есть вождь. И вот Робеспьер, перед которым стоит тысяча неотложных государственных проблем, всю свою энергию начинает вкладывать в борьбу с Дантоном. А Вайде хочется, чтобы в фильме было показано, насколько противоестественна эта борьба, а по существу — игра со смертью. Итак, нужен актер на роль Дантона. Предоставим слово режиссеру: «Так или иначе вопрос решался согласием Жерара Депардье сниматься у меня. Я видел его в театре и сказал себе: вот актер, с которым я должен работать. Это необыкновенно яркая личность, в нем просто фантастические жизненные силы. Я пригласил его на роль Дантона, потому что подумал: такого, как он, стоит убивать на экране — сразу возникает ощущение противоестественности происходящего».
Но вот другой психологический тип — некрофил. Это человек, одержимый глубинным влечением к смерти. Греческое слово nekros означает «труп», «нечто мертвое», «неживое» (имеются в виду жители загробного мира). Впервые это слово употребил в 1936 г. испанский философ Мигель де Унамуно (1864—1936). Отвечая на речь испанского генерала, он сказал: «Только что я услышал бессмысленный некрофильский возглас: «Да здравствует смерть!» В 1961 г. Фромм заимствовал данное понятие у Унамуно и занялся изучением характерных особенностей некрофилии.
Некрофильство, в определении Фромма, есть страстное желание превратить все живое в неживое, тяга к разрушению ради разрушения. Некрофил — антипод жизни. Его неудержимо влечет ко всему, что не растет, не меняется, ко всему механическому. Но движет его поведением не только тяга к омертвелому, но и стремление разрушить зеленеющее, жизнеспособное. Некрофил стремится как бы
Тема 14
фантастический гротеск и трагизм. Авангардизм


 ускорить жизнь, пройти ее земную, бренную часть и приблизиться к смерти. Поэтому все жизненные процессы, чувства, побуждения он хотел бы опредметить, превратить в вещи. Жизнь с ее внутренней неконтролируемостью, поскольку в ней нет механического устройства, пугает и даже страшит некрофила. Он скорее расстанется с жизнью, нежели с вещами, поскольку последние обладают для него наивысшей ценностью.
ускорить жизнь, пройти ее земную, бренную часть и приблизиться к смерти. Поэтому все жизненные процессы, чувства, побуждения он хотел бы опредметить, превратить в вещи. Жизнь с ее внутренней неконтролируемостью, поскольку в ней нет механического устройства, пугает и даже страшит некрофила. Он скорее расстанется с жизнью, нежели с вещами, поскольку последние обладают для него наивысшей ценностью.
Некрофила влекут к себе тьма и бездна. В мифологии и поэзии его внимание приковано к пещерам, пучинам океана, подземельям, жутким тайнам и образам слепых людей. Глубинное интимное побуждение некрофила — вернуться к ночи первоздания, к праисто-рическому состоянию, к неорганическому миру. Жизнь никогда не является предопределенной, ее невозможно с точностью предсказать и проконтролировать. Для того чтобы сделать жизненное управляемым, подконтрольным, надо его умертвить...
Для некрофила характерен исключительный интерес ко всему механическому (небиологическому). Это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей. В самом бытии некрофила заложено мучительное противоречие: он живет, но тяготится жизнью; он развивается как все биологическое, но тоскует по разрушению. Некрофил ощущает творческое начало жизни, но глухо враждебен всякому творению. В сновидениях ему предстают жуткие картины насилия, гибели и омертвления. Он видит совершенно мертвый город, полностью автоматизированное общество. В телевизионном зрелище ему созвучны сцены смерти, траура, истязаний.
Характеризуя первый манифест футуризма, Фромм пишет: «Здесь уже мы встречаем серьезные элементы некрофилии: обожествление машин и скоростей; понимание поэзии как средства для атаки, разрушения культуры, ненависть к женщине; отношение к локомотивам и самолетам как к живым существам»1.
Второй футуристический манифест (1910) развивает идеи новой «религии скоростей»:
Быстрота (сущность которой состоит в интуитивном синтезе всякой силы, находящейся в движении) по самой своей сути чиста. Медли-
' тельность по сути своей нечиста, ибо ее сущность в рациональном анализе всякого рода бессилия, находящегося в состоянии покоя. После разрушения устаревших категорий — добра и зла — мы создадим новые ценности: новое благо — быстрота и новое зло — медди-
|' тельность. Быстрота — это синтез всего смелого в действии. Такой
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998. С. 452.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998. С. 452.
синтез естествен и наступательно-активен. Медлительность — это анализ застойной осторожности. Она пассивна и пацифична... Если молитва есть общение с Богом, то большие скорости служат молитве. Святость колес и шин. Надо встать на колени на рельсах и молиться, чтобы Бог послал нам свою быстроту. Заслуживает преклонения гигантская скорость вращения гирокомпаса 20 000 оборотов в минуту — это большая механическая скорость, которую только узнал человек. Шуршание скоростного автомобиля — не что иное, как высочайшее чувство единения с Богом. Спортсмены — первые поклонники этой религии. Будущее разрушение домов и городов будет проходить ради создания огромных территорий для автомобилей и самолетов. В России первый манифест итальянского футуризма был переведен и опубликован в петербургской газете «Вечер» 8 марта 1909 г. Эстетические идеи итальянских футуристов оказались созвучными поискам поэтов и художников братьев Бурлюков, художников М.Ф. Ларионова, Н.С. Ларионовой, Н.С. Гончаровой, которые стали в 1908—1910 гг. предысторией русского футуризма. Новый путь поэтического творчества возник в Петербурге в 1910 г. с выходом альманаха «Садок судей» (с произведениями Бурлюков, В. Хлебникова, В. Каменского, Е. Гуро). Осенью 1911 г. они вместе с Маяковским и Крученых составили ядро литературного объединения «Гилея». Им принадлежит самый хлесткий манифест — «Пощечина общественному вкусу» (1913): «Прошлое тесно: Академия и Пушкин непонятнее иероглифов» и поэтому следует «сбросить» Пушкина, Достоевского, Бальмонта и других с «парохода современности».
Будетляне (слово, придуманное Хлебниковым) «приказывали» чтить «права» поэтов на «увеличение словаря в его объеме производными и произвольными словами», они предсказывали «Новую Грядущую Красоту Самоценного Слова». Сам термин «футуризм» применительно к русской поэзии появился в 1911 г. в брошюре Игоря Северянина «Ручьи в лилиях. Поэзы». В январе 1912 г. в редакции ряда газет была разослана программа «Академия эгофутуризма», где в качестве теоретических основ провозглашались интуиция и эгоизм. Против гладкой певучести шуршащих шелком «поэз» петербургских эгофутуристов восстали московские будетляне-речетворцы (т.е. создатели новых слов). В своих декларациях они провозглашали «новые пути слова», оправдывая затрудненность эстетического восприятия: «Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазанных сапог и грузовика в гостиной». Поощрялось использование «полуслов и причудливых хитрых сочетаний» (заумный язык).
 |
Тема 14
 Вот, к примеру, стихотворение поэта Велимира Хлебникова, «Ночь перед Советами»:
Вот, к примеру, стихотворение поэта Велимира Хлебникова, «Ночь перед Советами»:
Сумрак серый, сумрак серый,
Образ — дедушки подарок.
Огарок скатерть серую закапал.
Кто-то мешком упал на кровать,
Усталый до смерти, без меры,
В белых волосах, дико всклокоченных,
Видна на подушке большая седая голова.
Одеяла тепло падает на пол.
Воздух скучен и жуток.
Некто притаился,
Кто-то ждет добычи.
Здесь не будет шуток,
Древней мести кличи!
И туда вошло
Видение зловещее.
Согнуто крючком,
Одето, как нищая.
Хитрая смотрит,
Смотрит хитрая!
Хлебников поддерживал устремления «будетлян» к преобразованию мира средствами поэтического языка, участвовал в их сборниках, где публиковались его поэма «Я и Э». Поэт пытался подчеркнуть важное значение всех резкостей, «несогласов» и чисто первобытной глупости. Он хотел заменить сладкогласие громкогласием.
Поэт Крученых вульгаризировал воспринятую у Хлебникова идею «заумного языка», истолковывая ее как индивидуальное творчество, лишенное общеобязательного смысла. В своих стихах он осуществил звуковую и графическую заумь.
Поэтические откровения Хлебникова воспринял, отредактировал и приумножил Маяковский. Он широко вводил в поэзию язык улицы, различные звукоподражания, создавал с помощью приставок и суффиксов новые слова — понятные читателям в отличие от заумных изобретений Крученых. В декабре 1915 г. Маяковский писал в статье «Капля дегтя»: «Первую часть программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего».
Главные принципы художественной программы футуристов — движение, энергия, сила, скорость. Реализовать это они пытались достаточно простыми, если не сказать примитивными, приемами. В живописи движение часто передавалось путем наложения последовательных фаз на одно изображение. Это похоже на наложение ряда последовательных кадров кинопленки на один. В итоге рождаются «смазанные» кадры с изображением лошади или собаки с двенадцатью ногами, автомобиля или велосипеда с множеством колес. Состояния души передавались с помощью абстрактно лучащихся, динамически закру-
фантастический гротеск и трагизм. Авангардизм 247

 чивающихся в пространстве цветоформ (или классических объемов в скульптуре): бунтующие массы агрессивными киноварными углами и клиньями прорываются сквозь сине-фиолетовую мглу пространства.
чивающихся в пространстве цветоформ (или классических объемов в скульптуре): бунтующие массы агрессивными киноварными углами и клиньями прорываются сквозь сине-фиолетовую мглу пространства.
И все же футуристам удалось добиться создания предельно напряженного художественного пространства чисто живописными средствами, чего не удавалось никому ни до них, ни после них. Справедливости ради надо сказать, что в лучших работах футуристов (особенно Северини, Боччони, Балла) эти попытки увенчались оригинальными художественными произведениями, которые вошли в сокровищницу мирового искусства.
Еще одной особенностью эстетики футуризма стало желание выразить звук чисто визуальными средствами. Шумы, которые ворвались вместе с новой техникой, увлекли футуристов, и они пытались передать их в своих работах. «Мы хотим петь и кричать в наших картинах», звучать победными фанфарами, реветь паровозными гудками и клаксонами автомобилей, шуметь фабричными станками. Мы видим звук и хотим передать это видение зрителям. Отсюда введение звука в название картин типа «Скорость автомобиля + + свет + шум». Это было время увлечения звуком. Один из футуристов назвал свой манифест «Искусство шумов».
Культ звука
Советский режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874—1940) не был футуристом, но мы хотим показать на примере его радиоспектаклей новую эстетику того времени, новое представление о красоте. Теперь попробуйте, закрыв глаза, вызвать в своем воображении шум морского прибоя. У вас рождаются не зрительные, а слуховые образы. Плеск набегающей волны, мягкий шелест уходящей волны. Вы слышите (внутренним слухом) раскаты грома и можете даже описать этот звуковой образ. Вам нетрудно отличить рев мотора пролетающего самолета от скрежета гусениц танка. Вы можете вообразить шелест листьев векового дуба, словно разбуженного порывом ветра. Вспоминая детство или юность, вы можете представить некую звуковую партитуру: пение петуха, голоса и шумы за окном. А тот памятный вечер, когда вы были с любимой. Звуки танго, гул зала, шелест бального платья...
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: