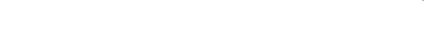ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА 23 страница
Это сопоставление «Маскарада» Мейерхольда и конца царского режима было тем более кстати, что премьера данной постановки имела место 25 февраля 1917 года, «когда — по выражению А. Кугеля — революция шла уже полным ходом. На улицах... постреливали... слышались толки и собирались толпы с флагами».
«Маскарад» бы последней премьерой Императорских театров. На этой трагической премьере артист Ю. М. Юрьев получил от Николая II последний подарок, какие русские цари делали своим лучшим артистам. (В театральных кругах поговаривали, что и Мейерхольда ожидает царская милость за столь помпезное, парадно-придворное представление).
Казалось бы, автор этого спектакля, столь многим обязанный, за всяческую поддержку своим планам начальству Императорских театров (и это в продолжение десятилетней службы в Министерстве Двора) должен был бы, хотя бы из показного приличия, занять выжидательную позицию, в вопросе о признании советской власти, враждебной той идеологии, какую Мейерхольд клал в основу своих «царедворческих» постановок. Так, по крайней мере, поступило подавляющее большинство его товарищей по сцене.
Но так рассуждать — значит совершенно не знать ни Мейерхольда, ни ему подобных «карьеристов».
Как только он увидел, чья сторона берет верх, в гражданской войне, разразившейся на просторах России, — он одним из первых среди артистов бывших Императорских театров, публично признал новую власть, открыл в доказательство своей приверженности к советскому строю «Курсы мастерства сценических постановок при Театральном отделе наркомпроса» и кстати на общем собрании артистов в Мариинском
Театре, требовал от них «отречься от самой России, во имя искусства всего земного шара». («История советского театра»).
Для иного из нас «отречься от старой России», вскормившей нас и воспитавшей на своих неисчислимых памятниках искусства, славы, героических завоеваний, было бы равносильно гражданскому самоубийству. Но для Карла-Теодора-Казимира Мейерхольда, воспитанного на любви к своему фатерланду и культе канцлера Бисмарка, чей портрет «красовался» в доме его отца, как икона, отречься от старой России после того, как он уже отрекся, в зрелом возрасте, от старой Пруссии было легче легкого.
Такой циничный призыв к измене старой России того, кому она дала всё, начиная с образования и кончая славой и деньгами, вывел из себя даже А. Ку- геля, который, как еврей и ярый демократ, имел конечно «quelques comptes a regler» со старой Россией.
«Кто не русский актер, тот пускай идет вон из русского театра», — возопил он в запальчивости на страницах редактируемого им журнала «Театр и искусство» (номер 50, за 1917 г.). Можно подумать, что увлекшийся редактор этого журнала хорошо был осведомлен о чисто-немецком происхождении Мейерхольда, о котором последний отнюдь не любил распространяться.
Через два года с лишним Мейерхольд прокламирует в Москве «Театральный Октябрь», записывается в коммунистическую партию и возглавляет управление всеми театрами Советской России.
А еще через год грозит, на публичной дискуссии, директору Камерного театра А. Я. Таирову учредить театральную Чека, чтобы покончить с буржуазным и контрреволюционным направлением, царящим еще в некоторых театрах.
«Так пишется история» — заметят скептики, ставя слова эти в кавычки.
Так пишется история, — отвечу я без малейшей иронии и пренебрегая кавычками.
В те самые годы, в которые Мейерхольд «экспериментировал» в Драматическом Театре В. Коммиссар- жевской (1906-1907), ведя к гибели антрепризу этой гениальной артистки, — группа просвещенных деятелей театра, ища путей его развития в прошлом и исследуя, где именно эти пути его, как будто сошли с правильной дороги (приведя театр начала XX века к кризису), образовала сплоченную компанию вокруг идеи Евреинова основать «Старинный театр», для проведения на сцене метода художественной реконструкции знаменательных некогда спектаклей.
Следующую часть настоящей главы я посвящу истории и принципам таковой реконструкции по моему методу, а пока лишь замечу, что он преследовал, в общих чертах, те же задачи, что и студенты Сорбонны, объединившиеся вокруг известного профессора медиевиста Густава Когена, под кличкой «Les Theo- philiens».
Вот что, кстати, пишет этот знаменитый профессор Сорбонны в предисловии к своей книге. Адам Горбун он же де ля Галль — пьеса о «Робине и Марион», переложение Густава Когена. Издательство Де- ляграв, Париж, 1935. «Постановку «Действо о Теофиле» Рютебефа, сделанную нами в мае 1933 года как восстановление религиозного театра XIII века, студенты группы «Les Theophiliens» вместе со мною хотели сделать в феврале 1934 года и для профанского театра того же века, представив «Действо о Робине и Марион» Адам де ля Галля.
Это предприятие отнюдь не явилось новостью, ибо на этот раз мы не были ни единственными, ни первыми пытавшимися его осуществить... Эта пьеса уже была сыграна по-русски в Петербурге, 7-го декабря 1907 г., и в Москве, 23 марта 1908 г., под руководством Евреинова, директора Старинного Театра в переводе Бенедикта и Аничкова. Единственной помощью извне, к которой мы прибегли, подобно тому как в
|
прошлом году был привлечен Леон Шансерель, было приглашение знаменитого русского автора и режиссера Николая Евреинова, который поставил нам танцы обоих главных героев и финальную фарандолу, базируясь на миниатюрах, фотографии коих мы ему разыскали»...
Когда В. Коммиссаржевская порвала с Мейерхольдом и искала ему заместителя, она, не желая ограничить режиссуру Драматического Театра своим братом Ф. Ф. Коммиссаржевским (ныне известным в Англии и Соединенных Штатах режиссером), остановила свой выбор на мне, как на авторе стилизованной, в духе средневекового театра, постановки «Robin et Marion», в каковой она признала те творческие данные, какие ей показались наиболее желанными для нового руководителя ее театра.
Приглашенный на сезон 1908-1909, я вступил в исполнение своих обязанностей режиссера сообщением и защитой своего театрального кредо, с коим вкратце познакомил заранее самую директрису Драматического Театра и ее ближайших советников.
Это мое кредо, в противоположность кредо Мейерхольда, придававшего решающее значение, в истории возникновения нового театра, литературе (которая якобы «подсказывает театр» и т. п.) состояло в обосновании театральности, как положительного начала искусства, и содержало те самые мысли, какие вошли в мою статью «Апология театральности», напечатанную в том же 1908 г. в петербургском еженедельнике «Утро» (от 8-го сентября).
В главнейших чертах, мое учение о театральности, с коим я познакомил тогда моих новых сотрудников, в Драматическом Театре В. Коммиссаржевской, и которому посчастливилось, развившись постепенно в целую систему, укрепиться в передовых театрах России, на развалинах МХТ’овского натурализма, сводится к следующим данным.
Человеку присущ инстинкт, о котором, несмотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни эстетика не говорили до сих пор ни слова.
Я имею в виду инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации видимостей Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии «театральность». Театральность предшествует эстетике, она пре-эсте- тична. Смешно говорить об эстетике дикаря, нельзя его себе представить ратующим о «красоте ради красоты». Но он, безусловно, обладает театральностью, а следовательно и искусством театра, предшествующим всем иным видам искусства. Пре-эстетизм театральности — вот лозунг одним ударом сталкивающий с мели топкой эстетики застрявший корабль нашего театра, вместе с экипажем, завороженным песнями предательских сирен. Театральное искусство уже потому преэстетического, а не эстетического характера, что трансформация, каковой является по существу театральное искусство, примитивнее и доступнее, чем формация, к каковой обращается эстетическое чувство.
И я думаю, что в истории культуры именно театральность была некоего рода пред-искусством, понимая последнее в общепризнанном смысле. В чувстве театральности, а не в утилитаризме первобытного человека (как это полагает большинство ученых) надо видеть начатки всякого искусства.
Отсюда в Драматическом Театре В. Коммиссар- жевской я проводил следующий принцип: если артист хочет нелицеприятной награды, он должен оправдать действительность нашего существования в примиряющей с нею видимости. Но какая же конкретная форма здесь наиболее желательна? Мы знаем, что метод искусства, говоря вообще, заключается в представлении действительности сокращенно, упрощенно, т. е. в стремлении объять многое в видимо малом, другими словами в симплификации, и именно такой, которая бы отвечала нашему пониманию прекрасного, т. е. эстети- чески-тенденциозной симплификации. (К этому понятию близко примыкает понятие стилизации, однако последнее уступает первому в емкости). Если же вообще метод искусства таков, — а что он действительно таков, в том порукой вся история искусства, — то альфой и омегой сценического творчества является изысканная простота театральности.
Из всего сказанного ясно, что как чистый реализм, так и чистый символизм в сценическом искусстве одинаково противоречат сущности театра: первый — потому что стремится к ненужной жизненной повторности, второй — потому что по природе своей не стоит на линии интенсивнейшего зрительного восприятия. Исповедуя всей душой принцип идеальной театральности, я, в противоположность двум названным направлениям, выдвигаю сценический реализм, как направление, проникнутое тенденцией творчества новых, чистотеатральных ценностей. Под сценическим реализмом я разумею театрально-условный реализм, т. е. такой, который, коренясь в нашей творческой фантазии, заменяет точность исторической и современной нам действительности обманной ее видимостью, властно требующей доверчивого к себе отношения.
Применяя этот процесс сценического реализма н базируя последний на изысканной простоте театральности, я, помимо консультативной работы в Драматическом Театре В. Коммиссаржевской, — поставил в ее театре, с ее участием, трагедию «Франческа да Римини» Габриеля д’Аннунцио, в переводе поэта Валерия Брюсова, «Саломею» («Царевну») Оскара Уайльда (запрещенную под непосредственным воздействием Николая И) и пьесу «Ванька-Ключник и паж Жеан» Федора Сологуба. Говорить об успехе этих постановок, будучи их автором, не буду, отсылая читателя к критической литературе 1908-1909 гг., посвященной театру Коммиссаржевской и ее главнейшим деятелям.
Кроме меня, в этом театре режиссировал еще брат В. Коммиссаржевской, продолжавший, как и при Мейерхольде, быть заведующим монтировочной частью Драматического Театра.
Это был исключительно авторитетный режиссер, получивший прекрасное образование и воспитавшийся в артистической семье, художник, архитектор, музыкант и теоретик искусства. Эта авторитетность его, для артистов, увеличивалась еще тем обстоятельством, что Федор Коммиссаржевский был любимым братом Веры
Коммиссаржевской, с которой он в работе еще меньше церемонился, чем с другими артистами ее театра.
«У тебя нет трагического тона, — кричал сестре Федор на весь зрительный зал, — вот у него (он называл фамилию совсем молодого актера) настоящий тон». И знаменитая артистка безмолвно и покорно прислушивалась к тону этого партнера». (А. Мгебров, «Жизнь в театре»).
Артист А. А. Мгебров, служивший в Драматическом Театре, на амплуа любовников, дал очень верные характеристики режиссерам, с которыми ему пришлось работать у В. Коммиссаржевской. Пропуская его лестный отзыв о моем искусстве режиссера, приведу его характеристику Федора Коммиссаржевского в сопоставлении с Мейерхольдом. Это «два противоположные полюса, — пишет Мгебров в своей «Жизни в театре», — если первый эстет чистой воды, то второй, конечно, не меньший эстет, но его эстетизм наполовину рационалистичен и он был таким, даже когда искал своего воплощения в фантастику. Коммиссаржевский же был чужд рационализму. Его влекла любовь к далекому, нездешнему, едва уловимому и незримому миру. Мейерхольд напротив ничего не хотел знать о нем. Даже Метерлинк был для него канвою, которую он расцвечивал бунтарскими узорами своей дерзкой фантастики. Последняя служила Мейерхольду лишь средством для утверждения своего «я», всегда по существу глубоко реалистичного. Коммиссаржевский же жаждал лишь коленопреклоненного, трепетного духа и этим он был конечно ближе Вере Федоровне, и не без его влияния Мейерхольд вынужден был покинуть стены ее театра».
«Столь различные между собой Коммиссаржевский и Мейерхольд были различны и в методах работы: Мейерхольд навязывал актерам свои интонации, очень звучные, оригинальные, но со всем этим трудные и нарочитые; Коммиссаржевский же ждал, чтобы интонации рождались сами, шли от внутреннего экстаза».
Особенно удачными у Ф. Коммиссаржевского оказались, за этот сезон (1908-1909) его постановки «Королевы мая» Глюка, где его сестра, обладавшая прекрасным меццо-сопрано, пела партию пастушки, и «Черные маски» Леонида Андреева, дававшие впечатление притягательного кошмара.
Однако, я бы затруднился дать точное определение стилю постановки этого режиссера; и это потому, что рядом с другими новаторами сценического искусства (на Западе и в России), в постановках Ф. Коммиссар- жевского не было ничего такого, что изобличало бы художественную «марку», не-смешиваемую ни с какой другой. Реализм, в широком смысле этого понятия, Коммиссаржевскому гораздо ближе, нежели другим режиссерам-новаторам и в этом отношении он, заклятый враг традиций, может почитаться более других близким традиционному пути русского театра.
Критики отмечают с удовлетворением, что «чувство сценических форм, которое спасет его от копирования жизни и не имеет ничего общего с классическим каноном красоты, предохраняет Коммиссар- жевского от культа преувеличенной театральности Евреинова и от условных воплощений Мейерхольда. Поклонник живописности спектакля, глубоко чувствующий музыку, Коммиссаржевский вносит в свои постановки ту меру и тот ритм, которые исключают всякое преувеличение и всякое подчеркивание.
Ф. Коммиссаржевский постарался обосновать свое театро-понимание целой теорией. Он — один из наших первых теоретиков театра, — говорит Г. Крыжицкий, в своей книжке «Режиссерские портреты», — ив этом его несомненная заслуга, давшая ему право занять далеко не последнее место в истории развития нового театра. Многое из его теории устарело, многое выветрилось и потускнело, но многое осталось непреложным и поныне. Своей интересной книге «Театральные прелюдии» он предпосылает введение, озаглавленное им «Под знаком философии», в котором он излагает свой театральный символ веры. *
«Театр через живые и находящиеся в действии образы ведет зрителя к духовному постижению жизни». И дальше. — «Философское содержание художественных драматических произведений постигается через их эмоциональное содержание. И через него же раскрывается и на сцене. Идеи должны быть выражены на сцене в форме доступной чувствованию. Художник театра, раскрывая на сцене автора, должен выразить всеми сценическими средствами как внутренними, так и внешними, свое восприятие мировосприятия драматурга и свое восприятие философского содержания ставимого на сцене произведения. Такую работу я называю «постановкой» — говорит Ф. Коммиссаржевский.
Но постановка постановке — рознь. Всё дело зависит от формы. И вот здесь надо отметить, как заслугу, то обстоятельство, что Ф. Коммиссаржевский был одним из первых кто пытался у нас поставить и практически разрешить проблему формы в театре. Его коробит разнобой плоскостных декораций и объемного актера. Не удовлетворяют его и попытки дать трехмерные декорации, ибо всё равно фактурно актер никогда не будет вязаться с ними. Отсюда ведет свое начало художественная схематизация, которою отмечено большинство из декоративных обрамлений и сценических «фонов», в известных мне постановках Ф. Коммиссаржевского, как в театре его сестры, так и в других театрах, где этот режиссер всегда оказывался желанным гостем (будь то в России или заграницей) и — можно сказать — «побил рекорд плодотворностью своей режиссерской практики. Развивая мысль Гёте о празднике всех искусств на сцене, он думает, что мы постепенно идем к некоему синтетическому театру. Он приветствует отрадное «стремление сделать сценическое представление праздником, увести театр от серых буден натурализма к высокому и прекрасному поднимающемуся над обыденной жизнью».
Под этим «высоким и прекрасным» он подразумевает такой театр, где в гармоническом единстве сочетаются все виды театрального искусства.
«В настоящее время, — говорит он, — довольно ясно чувствуется потребность и намечаются пути к еще более широкой гармонии искусств на сцене, к слиянию в едином сценическом искусстве на одной сцене — искусства драматического, балетного и оперного».
«Наступает пора рождения нового актера, актера универсального, одновременно и певца, и танцора, и драматического лицедея, актера более развитого, культурного, но всё же подобного тем лицедеям, которые были в театре до разделения единого театрального искусства на отдельные отрасли. Когда явится такой актер, тогда будет и настоящий театр, театр единый, театр богатый, располагающий свободно всеми сценическими изобразительными средствами».
Выбитый революцией из седла, Коммиссаржевский не успел осуществить своей мечты о создании синтетического театра. Тем не менее попытки дать образцы такого рода театра им были сделаны еще до отъезда его заграницу. «Желаемого сочетания и соединения искусств Ф. Коммиссаржевский однако не достиг (на своей родине), — замечает П. А. Марков в своей книжке «Новейшие театральные течения» — соединение различных искусств часто оказывалось внешним, включение же танца или пения, в драматическое произведение, не всегда было оправдано, по мнению П. А. Маркова, внутренними качествами произведения.
Лично для меня Ф. Коммиссаржевский дорог не только творческою мощью подлинно культурного работника сцены, но и своим безукоризненным товарищеским, бережным отношением к моим режиссерским созданиям, несмотря на принципиальные иногда расхождения между нами во взгляде на трактовку той или другой пьесы. А этих пьес, подлежавших нашему общему обсуждению было немало, если принять во внимание, что после сезона Драматического Театра, мы стали с Ф. Коммиссаржевским директорами «Веселого театра для пожилых детей». Упомянуть этот театр на страницах истории русского театра обязывает меня хотя бы то обстоятельство, что на сцене этого театра были впервые публично представлены произведения Козьмы Пруткова, за вымышленным именем которого скрывались такие имена, как поэт граф Алексей Конст. Толстой, братья Жемчужниковы и другие выдающиеся русские писатели, дерзавшие, в области юмористики, посягать на общественные «святыни» отличавшиеся консервативной банальностью и доводившие жанр «Козьмы Пруткова» до тех форм, какие носят во Франции названье «loufoque».
Из драматических произведений этого (лишь за последнее время вполне оцененного) автора мы поставили с Ф. Коммиссаржевским, на сцене «Веселого театра для пожилых детей» добрую половину написанных им пьес, о представлении коих не смели и думать раньше боязливые антрепренеры и не любящие рисковать своею репутацией режиссеры. Успех Козьмы Пруткова превзошел не только ожидания критиков готовившихся к чудовищному скандалу от представления этих издевательских над добронравной буржуазией пьес, но и наши собственные ожидания.
Об успехе этой дерзкой затеи можно судить хотя бы по тому факту, что дирекция сатирического театра «Кривое Зеркало», опасаясь конкуренции с ним «Веселого театра» и плененная высоким «классом» этого театра, поспешила вступить со мною в переговоры, приглашая меня занять место главного режиссера «Кривого Зеркала». Я скажу дальше несколько слов об этом единственном в своем роде театре, где я прослужил, начиная с 1910 г., семь лет; а пока, исполняя обещанье, данное читателю, я познакомлю его с тем что представлял собою Старинный Театр, сыгравший немалую роль в истории русского театра XX века.
«В своих поисках новых средств актерской выразительности, — говорит П. А. Марков в книге «Новейшие театральные течения», — театр, естественно, обратился к тем театрам и к тем эпохам, когда театральное искусство достигло своего наивысшего ресцвета, когда актерское мастерство было богато и разнообразно — к театрам, в которых актеры намеренно «представляли», где они «играли», а не изображали жизнь».
Тогда-то и возникла — по мнению П. А. Маркова — великолепная и пышная выдумка Старинного Театра, руководимого Н. Н. Евреиновым. Дважды рождаясь и дважды распадаясь, этот необычный по своим заданиям театр искал в средневековом и испанском площадном театре оснований сценического искусства.
Средневековые фарсы и моралитэ были его первыми опытами. Испанские трагики — их завершением. По существу, это был театр великолепной выдумки и большой внутренней противоречивости. Он отвечал ясно выраженному стремлению погрузиться в эпоху стихийного актерского искусства[63].
Несколько другой подход к Старинному Театру у Евг. Зноско-Боровского.
«Как возникла идея Старинного Театра? — задается он вопросом, на который тут же отвечает: «Упадок реалистического театра, вызвавший Художественный Театр, но не исцеленный им, вызвал Евреино- ва на создание Старинного театра.
Евреинов считал, что падение театрального искусства обязано именно реализму; весь антитеатральный XIX век должен быть вычеркнут из истории театра, но, чтобы его возродить, нельзя просто использовать какую-нибудь одну, понравившуюся эпоху. Надо изучить все наиболее театральные эпохи, когда театр был в расцвете, не только изучить, но практически их осуществить: тогда составится богатый набор сценических приемов, навыков, действительность которых будет проверена и которые лягут в основу нового искусства театра.
Но театр не значит драматическая литература. В понятие театра входит, кроме драмы, вся постановка, игра актеров, а также публика, если она заражена театральностью и принимает то или иное участие в представлении. Воскресить театр — значит воскресить целый уголок культурной и общественной жизни определенного времени, где сам спектакль занимает только часть картины, дорогой сердцу истинного театрала. На почве старого искусства создать новое, а не педантически произвести мертвую археологическую реконструкцию, — вот к чему сводилась идея Евреинова, о которой он поведал своим друзьям в зиму 1906-07 гг. Ему хотелось проследить всю историю театра и возродить все эпохи, где театр достигал наибольшего развития. Удалось осуществить только два цикла: «театр средневековый» и «испанский», и совершенно подгото-
вить цикл «комедии делл’арте», памятником чего осталась капитальная работа артиста Старинного Театра К. М. Миклашевского. Спектакли первого из них прошли в сезон 1907-1908 гг., второго — в зиму 19111912 гг. Общее название Старинного Театра объединяло эти манифестации, разделенные таким значительным промежутком времени. Во главе этих циклов стояли, кроме самого Н. Н. Евреинова, Н. И. Бутков- ская и бар. Н. В. Дризен; главным режиссером первого цикла был приглашен А. А. Санин.
Первый цикл охватывал различные типы представления (от XI до XVI века), заключая в своей программе: литургическую драму XI века «Три волхва», для которой Евреинов написал специальный пролог; миракль
XII века «Действо о Теофиле» Рютбефа, пастурель
XIII века «Игра о Робине и Марион» Адама де-ла Галль; моралитэ XV века «Два брата», и, наконец, два фарса XVI века — «О чане» и «О шляпе рогаче» Жана Да- бондаса.
Каждый из этих спектаклей воскрешал ту или иную сторону театрального искусства своего времени, а также обстановку, в которой оно происходило. Так, для литургической драмы, была показана не только она сама, но ее представление предваряла сцена, разыгрываемая перед собором, в которой действовал народ, пришедший для созерцания представления.
Выдержанность внешнего вида спектаклей, к которым были привлечены лучшие русские художники: Бенуа, Добужинский, Шервашидзе, Рерих, Билибин, Чемберс, Щуко, слитность его со счастливо найденными приемами игры, обеспечили художественный успех первого цикла Старинного Театра. Второй цикл, посвящен- ^ ный испанскому театру XVII века, как более близкий нынешнему времени, принес и ясно выраженный успех у широкой публики.
Принцип, легший в основу спектаклей испанского цикла, был тот же, что и в первом. То перед зрителями воскресало представление, при свете факелов, в королевском парке Буен Ретиро на садовой сцене, отделенной роскошным занавесом, с чопорной церемонной игрой актеров, носивших гримы и костюмы причудливого
фантастического Востока, или пышно разодетых по картинам Веласкеца; то — бедная странствующая труппа грубо разыгрывала быструю комедию на жалких подмостках во дворе таверны между домами, на балконах которых помещаются некоторые из зрителей, перебивающих представление своими несложными замечаниями; то раскрывалась пышная сцена придворного театра при короле Филиппе IV, с тремя порталами и приподнятыми сценами, с богатыми сценическими эффектами, в роде бегущих облаков; а то новая странствующая труппа располагалась на площади, разбив подмостки на бочках или бревнах.
Для этих спектаклей выбор остановился не на обыкновенном театральном помещении, которое не позволило бы придать им всё разнообразие, которое замыслили устроители, но на большом зале большого выставочного помещения. Оно было отделано специально для этих спектаклей, по планам устроителей, специальные были сооружены подмостки, словом, всё было оборудовано так как того требовала вольная реконструкция испанских представлений периода их расцвета.
Среди множества хвалебных отзывов, которыми печать засыпала спектакли Старинного Театра, мы находим такие восторженные фразы:
«Это был роскошный пир искусства, это было священнодействие, это было таинственное рождение забытой красоты, красоты старины. В нашу плоскую бескрасочную жизнь, в наше житие чудом каким-то, клином каким-то вдвинулся Старинный театр, в котором умели плакать и смеяться до упаду. Это были незабвенные вечера, вечера чистой радости и жгучего наслаждения».
И автор этого отзыва помещает Старинный Театр среди тех «этапов нашего эстетического развития», которые со временем перечислит будущий «историк нашей культуры».
Метод художественной реконструкции, который я преподал и применил сам, в обоих циклах Старинного Театра назван мною не просто «реконструктивным» (что придало бы постановкам сравнительно-мертвечин- ный характер, часто свойственный историко-археологическим изысканиям), а «художественно-реконструктивным», потому что он открывает более широкое поле для сравнительно-свободного творчества. Режиссер, придерживаясь этого метода, обязан лишь войти в дух и мелочи исторической эпохи настолько, чтобы оказаться полномочным к работе как художник воспроизводимой им эпохи, а не как современный нам мастер, рабски воспроизводящий тот или иной мертвенно-книжный и иконографический материал. Разница, таким образом, между просто «реконструктивным» и «художественнореконструктивным» методами столь же огромная, как между методами науки и искусства.
Сам собой напрашивается очень важный вопрос: имел ли Старинный театр влияние на сценическое искусство разбираемой эпохи?
В. Всеволодский-Гернгросс отвечает на этот вопрос утвердительно, находя — на страницах своей «Истории Русского театра», — что влияние Старинного театра на театральную жизнь в России было значительное.
«Между прочим, — говорит он, — эти опыты убедили нас в том, что в деле реконструирования применимы только условные, стилизационные приемы».
Происходит общее влюбление в пленительное искусство старинного театра. Этот театр, — говорит И. А. Марков, — становится учителем актерского мастерства. В. Э. Мейерхольд воскрешает пышный спектакль придворного театра Людовика XIV. Он ставит «Дон Жуана», окружая актера и зрителя мельчайшими чертами эпохи. Занавеса нет. Рампы нет. Просцениум вдается в зрительный зал. Портал, канделябры, пышный Louis XIY, башмаки по мягким коврам; кружева, парики, рапиры; прыжки, порхание, реверансы и арапчата — шныряющие по сцене, то поднимая выпавший из рук Дон Жуана кружевной платок, то подставляя стул утомленным актерам, арапчата — созывающие публику, объявляющие об антрактах».
Молодой режиссер Н. М. Фореггер влюбляется в искусство французских шарлатанов и площадный фарс. Он восхищен актерами-акробатами, актерами-фокусни- ками. Они играют, кувыркаясь, они представляют, фокусничая, совершая головоломные прыжки и отпуская легкомысленные остроты. Это искусство большой высшей техники и виртуозности.
Но над всеми увлечениями — среди общей тяги к стилизации Старинного театра — господствует итальянская Комедия Масок великая «комедия делль’артэ», явившая самодовлеющее актерское мастерство во всем его блеске.
«Дон Жуан» (Мейерхольда) представляет собою «эхо прошедших времен», т. е. задачу, подобную задачам, которые ставил перед собою Старинный театр, с тою лишь существенной разницей, что, вместо попыток доподлинной реконструкции, перед нами стилизованная постановка эпохи Короля Солнца.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: